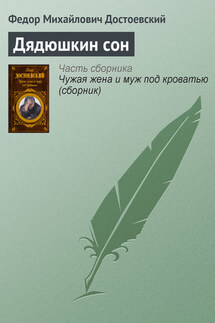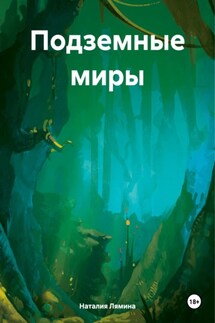Россия, кровью умытая (сборник) - страница 38
Хороши, горячи кони, мчащие весну.
Над степью, охраняя ее покой, стлались ветра-зимогоны. Синё дымилась, подсыхала степь. Станичник, помолясь, выезжал на пашню.
Неделя, другая – и вот уже залило степь от края до края зеленью всходов да сивыми ковылями.
Радостным цветом зацветали сады, обрастали сады зелеными шкурами.
Реки и озера кипели рыбой, сети не держали рыбы.
Ребятишки, на ходу сбрасывая штаны и рубахи, с криком: «Купа вода жара взяла!» – кидались с крутояра в разливы…
С давних пор с первым теплом из глубин России взмывали, как стаи голодных грачей, и тянулись на Дон да Кубань ватаги жнецов и косцов. В изодранных зипунах, в широких пестрядинных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они шли и шли, мерли на дорогах, тысячами гибли в холерных бараках, но живые были упорны в своем стремлении и, дорвавшись до хлебных мест, пускали корень и оставались тут жить: нанимались в табунщики и пастухи, в Приазовье пополняли рыбачьи артели, из пришлой голытьбы создавались кадры батраков и ремесленников, торговцев и земледельцев.
Станичники выезжали на покос целыми семьями – с бабами, ребятишками, принанятыми работниками. Кругом, насколько глазу хватало, расстилались зреющие нивы да травы в человеческий рост. Стальным клекотом стрекотали косилки, подпряженные парою, а то и тройкой взмыленных лошадей. В траве блистали освистанные косы, взмокшие линючие рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами горьковатый дым костров плыл над степью, под самые звезды взлетала молодая песнь.
К Петрову дню степь брунела. Стеной вставали хлеба – каленый колос, наливное зерно. Солнце обдавало степь потоками огня. Марево, мгла, жарко дышала онемевшая от зноя степь.
В долинах, в горячем затишье вызревал табак.
Арбузы и дыни были накатаны на бахчах, будто бритые головы на древнем поле битвы.
Садовые деревья ломились под тяжестью плодов.
На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.
Девки рано наливались, созревали для любви.
Степь родила хлеб.
Бабы рожали крепкомясых детей.
Пчелы лили медовый дождь, виноград наливало светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.
Богатый край, привольная сторонушка…
Станица уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой – мужики.
На казачьей стороне – и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой высокий берег, на котором по праздникам играл духовой оркестр, а вечерами собиралась гуляющая и горланящая молодость. Белые хаты и богатые дома под черепицей, тесом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садочков и акаций. Большая вешняя вода приходила к казакам в гости, под самые окна.
Мужичья сторона полой водой затоплялась, отчего всю весну жители нижней улицы по уши тонули в грязи. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышовыми плетнями подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом, шумя как море, к самым дворам подступали хлеба. Садов мужики не разводили, считая это дело баловством. Перед хатами лишь кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее, и бабьи наряды скромнее, и хлеб мужики ели простого размола, да и то – многие – не досыта.
Из хороших книг и грошовых книжонок давно известно, что казаки почитали себя коренными жителями, на пришлых с Руси иногородних людей посматривали косо, редко роднились с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем.