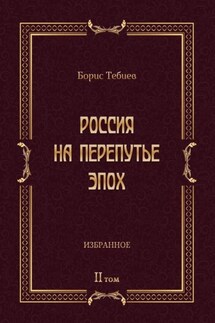Россия на перепутье эпох. Избранное. Том I - страница 49
Окончательно определиться по отношению к Марксу и марксизму, как его будущим сторонникам, так и оппонентам, безусловно, помог первый том «Капитала». Его цензурная история в России по-своему интересна и поучительна. Впервые вопрос о «Капитале» возник в Центральном комитете иностранной цензуры в 1871 году, когда по докладу цензора Шульца первый том немецкого издания работы Маркса был допущен «к обращению в России, как в подлиннике, так и в переводе». При этом «Капитал» характеризовался как произведение «строго научное, тяжелое и малодоступное» [49]. В 1873 году по аналогичным основаниям к обращению в России был допущен и французский перевод «Капитала».
Вопрос о сочинениях Маркса на русском языке в Петербургском цензурном комитете впервые обсуждался в 1872 году. Поводом к этому послужило представление в комитет «в установленном порядке» издателем Н. П. Поляковым выпущенного им без предварительной цензуры первого тома «Капитала» на русском языке. Петербургский цензурный комитет, прежде всего, обратился с запросом в Центральный комитет иностранной цензуры, разрешен ли подлинник сочинения. Получив утвердительный ответ, комитет направил книгу на просмотр цензорам. Реакция цензоров оказалась положительной. Однако это вовсе не означало, что «Капитал» оценивался ими однозначно. В цензурной практике тех лет было немало случаев, когда цензоры шли на явные поблажки и даже нарушения устава из чисто гуманных соображений: отрицательный отзыв на работу мог принести большой материальный ущерб издателю или автору. «Как и должно было ожидать, – писал в своем докладе цензор Д. Скуратов, – в книге заключается немало мест, обличающих социалистические и антирелигиозные направления пресловутого президента Интернационального общества. Но как ни сильны, как ни резки отзывы Маркса об отношениях капиталистов к работникам, цензор не полагает, чтобы они могли принести значительный вред, так как они… тонут в огромной массе отвлеченной, частью темной политико-экономической аргументации, составляющей содержание этой книги. Можно утвердительно сказать, что ее немногие прочтут в России, а еще менее поймут ее» [50].
При этом для оценки книги в цензурном отношении принимались во внимание следующие обстоятельства:
«1. Автор, как он и сам высказывается в предисловии, стоит на точке зрения исторического процесса. Современный капиталистический строй не зависит от добрых или злых наклонностей отдельного капиталиста. И никакое общественное лицо не ответственно за те экономические отношения, которые им олицетворяются.
2. Изложение автора относится по преимуществу к формам капиталистического развития Западной Европы, по преимуществу Англии, из промышленной истории которой он и заимствует свои примеры.
3. Его выводы не могут быть приложены к России, развитие которой совершается по-иному, и где свободная конкуренция ограничивается вмешательством правительства».
«Как раз в настоящее время, – писал цензор Скуратов, – Особой комиссией составлен проект6, в котором благосостояние рабочих столь же заботливо ограждается от возможности злоупотреблений со стороны хозяев, как и выгода хозяев против распущенности или невыполнения обязанностей со стороны рабочих» [51].
Принимая во внимание указанные обстоятельства, Цензурный комитет согласился с мнением цензоров, и книга беспрепятственно вышла в свет.
Как справедливо писал в 1920 году безымянный автор «Архивной справки», из которой взяты цитированные выше документальные отрывки, несмотря на внешнюю наивность цензорской аргументации, цензоры поняли общий дух «Капитала» гораздо лучше, чем многие, если не большинство тогдашних поклонников Маркса в России. «Характерные черты марксовой философии истории: признание абсолютной необходимости исторического процесса и отрицание роли личности в истории, с одной стороны, западнический характер всей концепции, с другой, – отмечал автор «Справки», – не без основания были подчеркнуты ими, точно также как и неответственность отдельного общественного лица за олицетворяемые им экономические отношения.