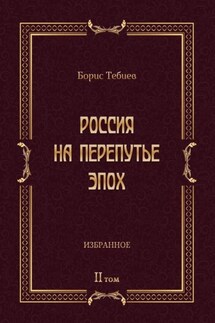Россия на перепутье эпох. Избранное. Том I - страница 53
Последствием влияния гегелевской школы в изложении Маркса, отмечал Жуковский, является утомительное перекладывание одного и того же простого и понятного самого по себе содержания в различные диалектические формы, которое напрасно удлиняет изложение, утомляет внимание, а для читателя, непривычного к подобной метафизической игре, делает самое изложение местами вовсе непонятным [6].
«Диалектический арсенал», собранный на первых страницах книги, которому Маркс «придает особенную важность», Жуковский считает пригодным лишь для кружка дилетантов диалектики. «Для существа дела все эти диалектические доказательства тех положений, которые доказывает Маркс, не имеют никакого интереса…» Все дальнейшее критическое содержание книги Маркса, вся ее философская сущность, если отделить ее от чисто фактической части, имеющей значение как простое описание текущего процесса производства, выражается в немногих словах и не потребует для ее объяснения много места.
В дальнейшем своем анализе отдельных положений «Капитала» Жуковский аргументировано обвиняет Маркса в манипулировании диалектическими противоречиями и превращении их в действительные бесконечные противоречия, «на которых, по Марксу, и строятся все права капитала…» [7].
Жуковский оценивает Маркса как представителя формалистического течения политической экономии, ограничивающего свое исследование исключительно формально «морфологической» стороной общественной жизни, то есть, правовыми отношениями. В подтверждение этому Жуковский ссылается на предисловие Маркса «К критике политической экономии». Маркс говорит здесь следующее: «…Человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления». Жуковский считает, что это утверждение Маркса не соответствует современным научным воззрениям, ибо если юридические формы и вырастают на экономической почве, то в сознании человека могут возникать не только такие «формы, для осуществления которых есть готовые материальные средства…» [8].
Диалектический метод Маркса с его претензией на абсолютное знание был подвергнут серьезной критике и многими другими рецензентами «Капитала», в частности, Б. Н. Чичериным, опубликовавшим в 1878 году в пятой и шестой книжках «Сборника государственных знаний» (выходил под редакцией В. П. Безобразова) серию из двух статей под общим названием «Немецкие социалисты». Первая из них была посвящена творчеству Лассаля, а вторая – Маркса.
Чичерин убедительно обвинял Маркса в попытке «свою диалектику выдать за результат опыта» [9]. Фактическое изложение у Маркса он считал лишь «придатком, который освещается предвзятою мыслью, то есть представляется в совершенно ложном свете» [10]. «Таким и является, – писал Чичерин, – фактический материал в книге Маркса. – В выводе основных положений нет у него и тени фактического доказательства; затем, когда теория построена, на этом основании воздвигается фактическое здание, которое, разумеется, получает тот вид, который автору угодно ему придать. Следовательно, когда Карл Маркс уверяет, что его начала только кажутся выведенными a priori, то этим он обнаруживает только, что у него нет для них ни умозрительного, ни опытного доказательства. Он сам не знает, откуда они взяты. И точно, тут нет ни умозрения, ни опыта, а есть только логические фокусы, которые выкидываются для заданной наперед цели» [11].