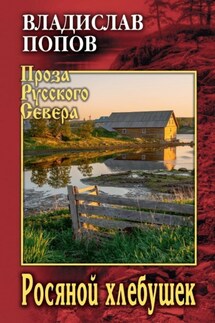Росяной хлебушек - страница 43
– А ещё, Феденька, грозятся: зимой дороги чистить не будут. А заболей кто? Чего делать? Как в больницу попасть? Да и в лавку за хлебами? Старикам-то с околков как быть, а?
– А деды-то, деды-то наши, уж, верно, в гробу переворачиваются, – горячился Павел, – они же лес под поля корчевали, животы рвали, Иваныч, сам знаешь, а теперь, глянь, всё сосняком да берёзой зарастает.
– Ну, полно, полно, плакать-то! Всего гостя раскривим! – замахала руками Марфа Ивановна. – Ты, Феденька, когда обратно едешь? Сегодня? Нет, мы тебя сегодня не отпустим! Баньку затопим. В баньке помоешься. Каменка нынче у нас новая, жаркая! И не думай, не думай даже. Завтра уедешь – у Зиночки с Горушки сестра приехала с мужем, вот тебя на уазике в твой музей и доставят!
– Да и вправду, Иваныч, оставайся! – сказал Павел. – Ведь давно не виделись, посидим!
И Фёдор остался. Вытянув ноги под столом, он сидел, откинувшись на крепкую спинку домодельного стула, и с удовольствием смотрел то на смеющегося Павла, то на Марфу Ивановну с блюдечком чая в растопыренной ладони, то в окно. Солнышко снова вывернулось над деревней и широкими бледными лучами заливало крыши изб и поле. Длинные малины покачивались и заглядывали в кухню. Пёстрые дорожки, раскатанные по полу, то загорались яркими красками, то гасли вместе с солнцем.
После чая они с Павлом рубили дрова для бани, выбирая ровные еловые чурки, таскали вёдрами воду и всё подначивали друг друга, как привыкли с детства.
Баня удалась на славу, и Фёдор с Павлом выпарились два раза, легко и беззаботно, а потом сидели, распаренные и усталые, в дощатом предбаннике у распахнутых настежь дверей. Кругом были шорохи. Вздыхали и потрескивали камни в остывающей печи. На улице трусил, причмокивая, мелкий светленький дождик, и длинные-длинные струйки воды тонко и часто тянулись с невидимой крыши через белый проём дверей.
– Пивко будешь? – улыбнулся заговорщицки Павел и, не дожидаясь ответа, полез за старую стиральную машину. – Полторашечка! – шёпотом сказал он, обтирая с бутылки паутину, затем достал стаканы и с десяток навяленных окуней. – Ну, с лёгким паром, Федя!
Они выпили. Пиво было горькое и холодное. Пена таяла и щекотала губы.
– Старые мы стали, Федя! Мне как тридцать лет исполнилось, так года и побежали, как под горку.
– А у меня так же. Как назад оглянешься, всё как будто вчера было. Как вчера, Паша…
Они помолчали. Дождь припустил и забарабанил часто и сильно по крыше. С крылечка залетали брызги и тёмным пятнали вытертые половицы.
– На могилку-то матери, Федя, ездишь, навещаешь?
– Да навещаю. Там из родни моей тоже никого не осталось. Да и деревня пустая, только в трёх дворах и живут…
– Жалеешь, что от нас-то уехал?
– Да как не жалеть, да только не могу здесь долго, сам знаешь.
– Это из-за Лизы.
– Из-за неё. Там спокойней как-то.
– Что у тебя за любовь такая, Федя, что всё успокоиться не можешь? Годов-то много прошло.
– Да не забывается, Паша, никак. Сидишь так у себя порой, глядишь в огонь и думаешь, вспоминаешь, и будто голос потом её слышишь. Ясно так раздастся. Вздрогнешь, и нет ничего.
– А я бы сказал так: нашёл бы себе какую бабу, в хозяйство впрёгся, и всё бы было веселее. Вон Пётр Григорьевич, за рекой-то, семьдесят годов! Дом-от его тоже сгорел – печь неправильно сложили, так что ты думаешь – новый поставил, сам рубил да ещё песни пел! Да такой-то нас с тобой переживёт!