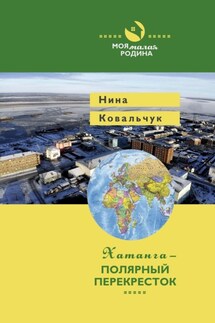Русская колонна - страница 10
В семидесятые годы в Советском Союзе, так сказать, «окончательно» сложилось бесклассовое и, так и подмывает вымолвить, «бесстроевое» (совсем не случайно это слово пришло в голову Войновичу) общество – и притом бесконечно далекое от общественных идеалов анархистов, марксистов и революционных социалистов. Классов в нем не было не потому, что, мол, интересы всего общества стали сильнее классовых интересов и классы слились в единое целое, и не потому, что хозяйственная и трудовая деятельность якобы стала у всех почти тождественной по типу, а совсем по другой причине. Дело было в том, что к тому времени в советском обществе не осталось никакой сколь-нибудь значимой солидарности: ни в малой ячейке трудового коллектива, ни в рамках предприятия, ни по отношению к людям сходных профессий, ни в профессиональных сообществах. Расцвел прямо-таки махровый индивидуализм.
И спустя четверть века в России и большинстве других бывших советских республик положение практически не изменилось – несмотря на кардинальные перемены в отношениях собственности и на колоссально увеличившуюся поляризацию доходов.
У нас по-прежнему нет никакого рабочего класса – вместо него имеется абстрактная совокупность людей рабочих профессий. Ведь как ни определяй классы: в связи ли с отношениями людей в сфере собственности, по месту ли в системе разделения труда, в зависимости ли от личных доходов или же как-то иначе, – без своей основы, то есть без классового самосознания, они существовать не могут. А у почти каждого рабочего в России вместо этого имеется лишь осознание узко понимаемой личной выгоды, часто дополняемое неким патриотизмом и государственничеством. Нет у них ни коллективизма, ни локальной (внутри предприятия, цеха, лаборатории и т. п.), ни глобальной (между предприятиями, профессиями – внутри России и за ее пределами) солидарности. В самом деле, не называть же коллективизмом панический страх потерять работу, который приводит к почти непрерывному внутреннему согласию лизать задницу начальству.
Это доказывают примеры массового поведения. Так, участие широких масс населения в играх финансовых «пирамид» было довольно-таки осознанным. При этом каждый понимал, что выиграть можно только за счет проигрыша большинства других. Зато случаи действительных проявлений солидарности в рамках одного предприятия чрезвычайно редки, а примеров эффективной солидарности между работниками разных предприятий почти нет (удается вспомнить разве что шахтерские забастовки).
Разительный контраст с этим поведением демонстрируют рабочие в западных странах. Даже не забираясь в далеко отстоящую от нас политическую культуру самых развитых стран, можно привести примеры польской «Солидарности» в восьмидесятые годы, румынских и албанских отчасти успешных протестов против непопулярного экономического курса в девяностые годы и стихийного народного восстания в Аргентине. Можно определенно сказать, что солидарность и коллективизм для западного рабочего – это базовые «инстинкты». А в России рабочие в большинстве поддержали приватизацию начала девяностых (почти каждый безосновательно надеялся что-то выгадать от нее), никак не отреагировали на залоговые аукционы, безропотно (точнее, все, что они делали, так это роптали в своем кругу и вздыхали) снесли дефолт 1998-го года.
Но в России нет и класса капиталистов. Российские собственники и богачи точно так же индивидуалистичны и легко предают абстрактный для них классовый интерес в пользу надежд на сиюминутную личную выгоду. Например, когда начались работы по созданию закона о рекламе, ни одна из заинтересованных частных структур не поддержала предложения о выработке единых позиций, более того, все они отвергли предложения о помощи в лоббировании выгодных рекламодателям и рекламным агентствам законодательных положений. Каждый либо имел свои частные отношения с Кремлем, либо надеялся их приобрести. Довольно глупо, что эти «полужуравлиные» отношения представлялись им жирной синицей в руках, зато инфраструктурные, то есть более надежные, механизмы закона представлялись угрозой текущей выгоде, а будущая возможная выгода от этих механизмов казалась чем-то эфемерным и утопичным. Тут наши собственники трогательно совпали с неимущими массами, которые в свое время поддержали ваучерную приватизацию, а не приватизацию с именными чеками, так как ваучеры – в отличие от именных чеков – позволяли собой свободно торговать, да и просто давали возможность немедленно получить за себя «живые деньги».