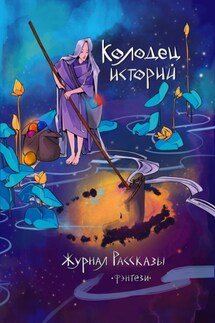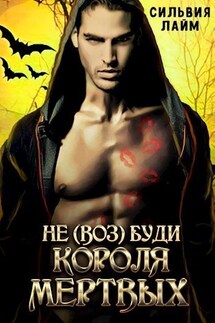Русские Курилы. История и современность. Сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы - страница 31
Итак: «Вы упомянули о том, что Резанов будто бы объявил о том, что весь Сахалин – Японский остров. Неправда.
Обстоятельство это показалось мне крайне сомнительным, но я счел нужным навести точные справки в архивах. Теперь я имею перед собой подлинную бумагу, из которой вижу, что Посол наш Резанов не только не признавал права Японцев на весь Сахалин, но и прямо объявил им, что на север от Матсмая (Хоккайдо – А.П.) все земли и воды принадлежат Российскому Императору, и чтобы японцы не распространяли далее своих владений». И далее: «Этому объявлению я, впрочем, в настоящее время не придаю никакого особенного значения и упомянул о нем только потому, что Посланник первый начал ссылаться на давно прошлые времена».
Источник: АВПРИ, I – 9, оп. 8, д. № 1, 1867, лл. 97об. – 98 об.
Док. № 26. Циркулярная депеша министра иностранных дел России А. М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года
Царское Село, 19/31 октября 1870 г.
Неоднократные нарушения, которым в последние годы подверглись договоры, почитаемые основанием европейского равновесия, поставили императорский кабинет в необходимость вникнуть в их значение по отношению к политическому положению России.
В числе этих договоров к России наиболее непосредственно относится трактат 18-го/30-го марта 1856 года.
В отдельной конвенции между обеими прибрежными державами Черного моря, составляющей приложение к трактату, заключается обязательство России ограничить свои морские силы до самых малых размеров.
С другой стороны, трактат установил основное начало нейтрализации Черного моря.
Державы, подписавшие трактат, полагали, что это начало должно было устранить всякую возможность столкновений как между прибрежными государствами, так равно и между последними и морскими державами. Оно долженствовало умножить число стран, пользующихся, по единогласному уговору Европы, благодеяниями нейтрализации, и, таким образом, ограждая и Россию от всякой опасности нападения.
Пятнадцатилетий опыт доказал, что это начало, от которого зависит безопасность границы российской империи с этой стороны во всем ее протяжении, имеетлишь теоретическое значение.
В самом деле: в то время как Россия разоружалась в Черном море и даже посредством декларации, включенной в протоколы конференции, прямодушно воспрещала самой себе принятие действующих мер морской обороны в прилежащих морях и портах, Турция сохраняла право содержать в Архипелаге и в проливах морские силы в неограниченном размере; Франция и Англия могли по-прежнему сосредоточивать свои эскадры в Средиземном море.
Сверх того, по выражению трактата, вход в Черное море формально и навсегда воспрещен военному флагу, как прибрежных, так и всех других держав; но в силу так называемой конвенции о проливах, проход через эти проливы воспрещен военным флагам лишь во время мира. Из этого противоречия проистекает то, что берега российской империи открыты для всякого нападения, даже со стороны держав менее могущественных, если только они располагают морскими силами, против которых России могла бы выставить лишь несколько судов слабых размеров.
Впрочем, трактат 18-го/30-го марта 1856 года не избежал нарушений, которыми подвергались большая часть европейских договоров; ввиду этих нарушений трудно было бы утверждать, что опирающееся на уважение к трактатам (этим основам права международного и отношений между государствами) писаное право сохранило ту же нравственную силу, которую оно могло иметь в прежние времена.