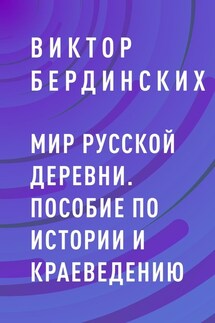Русские поэты 20 века. Люди и судьбы - страница 50
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил…
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.
Стихи 1930-1937 годов – это мощный вал новой поэзии Мандельштама. Хотя его творческие периоды вовсе не наглухо отделены друг от друга: многое в них перетекает из предшествующего – в последующий, передается – подобно эстафете. В общем же в 1930-е годы им создана примерно половина всего стихотворного наследия (притом, что многие тексты этого периода не сохранились – утрачены либо уничтожены). Каждое стихотворение в это время пишется как последнее в жизни – предсмертное. Поэт стоял на краю гибели и ждал ниминуемого конца.
И если предыдущая мандельштамовская поэтика (1916-1925 годы) – это «пир ассоциаций», то в 1930-е годы – это культ творческого порыва и метафорического шифра.
Историзм поэта в эти годы обернулся острым чувством современности. Мерило ценностей жизни для него – судьба сосуществующего с ним в одном времени человека.
Л.Гинзбург ярко воспроизводит словесный портрет Мандельштама этого периода (начало 1930-х годов):
«Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи… Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам…
Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком». (11)
У него не было никаких внешних признаков «литературного величия». Обыденный язык поэта – «немного богемный, немного вульгарный». Но стоит «нажать на важную тему» – и «распахиваются входы в высокую речь». Он говорит словами своих стихов: «косноязычно, грандиозно, бесстыдно». Он «полон ритмами, мыслями, движущимися прекрасными словами», «делая свое дело на ходу», пребывая «равнодушным к соглядатаям».
Для той же Л.Гинзбург он – «зрелище, внушающее оптимизм».
«Мы видим человека, – отмечает она, – который хочет денег и известности и огорчен, если не печатают его стихи. Но мы видим, что это огорчение ничтожно по сравнению с чувством своей творческой реализованности, когда оно сочетается с чувством творческой неисчерпаемости. Он переместился туда всем, чем мог – в остатке оказалось черт знает что: скандалы, общественные суды.
Мандельштамовское юродство – жертва бытовым обликом человека. Это значит ни одна частица волевого напряжения человека не истрачена вне поэтической работы. Все ушло туда, а в быту остался чудак…». (12)
«Стихи перемалывают быт», – говорила М.Цветаева. Мандельштам стал эталоном поэта, поднявшего голос против своего «волчьего» времени и бесчеловечного государства, уничтожившего личность. Иначе он просто не мог бы оставаться поэтом, а такой исход был бы выше его сил – неприемлем и невыносим…
Над своими стихами в советскую эпоху – во времена личной бесприютности и обездоленности – Мандельштам работал чаще всего ночью: в переполненной коммунальной квартире лишь тогда можно было остаться наедине с собой – чтобы услышать внутренний ритм, проникнуться духом музыки. Он «проборматывал» приходящие строки, а потом записывал их – «с голоса»… Ему не нужен был письменный стол (как Пастернаку). Он сочинял стихи на ходу, и лишь в конце присаживался, чтобы их записать.