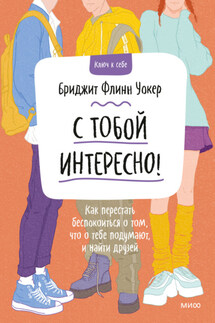Русский хлеб в жерновах идеологии - страница 26
Часть II
Уравнение с тремя неизвестными
В сущности своей всякий народ – стихия анархическая; народ хочет как можно больше есть и возможно меньше работать, хочет иметь все права и не иметь никаких обязанностей.
Максим Горький
Глава 1
§ 1.1. На первый взгляд, статистика – штука суровая, скучная и не романтичная. Мало кого можно ею увлечь.
Ладно ещё «статистика войны»! – калибры артсистем, «суммарное водоизмещение», насыщенность подразделений пулемётами, «вес бортового залпа», запас хода по шоссе, «практический потолок»; и, конечно, самый сок – убитые, раненые и пленные, цифры санитарных и безвозвратных потерь (у нас и у противника). Есть немало людей, которые, не будучи ни профессиональными историками, ни профессиональными военными, тем не менее страстно и увлечённо разбирают «историю войн», во всей её сложности и полноте, – от тактики стрелковых подразделений до планов мобразвёртывания, от сравнительных ТТХ средних танков до «ресурсозатратности» их производства…
Все эти люди активно обмениваются мнениями и объединяются по интересам; в разных формах – от дискуссий на специализированных сайтах и форумах до создания обществ, кружков и клубов (как у «ролевиков» и «реконструкторов»).
А сельское хозяйство и продовольствие… что ж тут интересного? – какого неспециалиста могут увлечь площадь запашки, конское поголовье, колеблемость урожаев, среднедушевое потребление, объём местных резервов, транзитная хлеботорговля, «центнеры с гектара» да «килокалории на человека»?.. Однако неосоветчики умудрились и эту (действительно скучноватую) тему сделать интересной для исследования и воистину захватывающей. Как им это удаётся? – да как всегда: при помощи лжи и передёргиваний. Следить за их «ловкостью рук» – одно удовольствие!
В случае со статистикой неосоветчики действуют точно так же, как они действовали в случае с отражением «дореволюционной действительности» в произведениях литературы и воспоминаниях современников. В той сфере (зыбкой и туманной, уже в силу оценочности…) они строили свои доказательства от противного – сначала приводя явно идиллические описания царской России из уст апологетов Империи, а потом опровергая их страстными и обличительными описаниями из уст её противников. По сути дела, они действовали по принципу: «Всё сказанное Вами может быть использовано против Вас».
При этом «градус неадеквата» порой повышался в разы! Но нужный психологический эффект достигался: у «среднего» читателя, которому сначала процитировали Солоухина, потом обрушили на его голову серию ударов в виде свидетельств Толстого и Энгельгардта, а в конце – добили Солоневичем, должно остаться впечатление «полного разгрома».
Вопрос: кого? – реально существовавшей Российской Империи или конкретного автора, написавшего плохую книгу о Российской Империи (либо просто неудачно выразившегося)?..
Если о достойном человеке с интересной судьбой некий писатель–халтурщик написал плохую биографическую книгу (в которой изобразил его в явно неправдоподобном виде – как смесь всепобеждающего супермена с безгрешным ангелом), то раскритиковать такую книгу, указать на содержащиеся в ней преувеличения, недостоверные факты и откровенные нелепости – долг всякого честного критика. Но порочит ли это самого реального героя книги?
А что сказать о критиках, которые специально выискивают самые нелепые, заведомо неправдоподобные жизнеописания исторического лица – с единственной целью: опорочить этого человека; перенести читательский гнев с конкретных авторов (написавших плохие книги по глупости или из конъюнктурных соображений…) – на героя этих книг?! Которого, к слову сказать, нельзя даже обвинить в том, что эти апологетические книги – «заказные» (ибо человек умер ещё в 1917 году!).