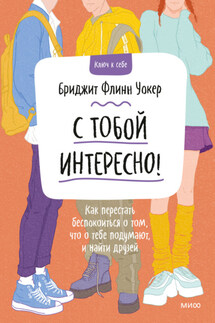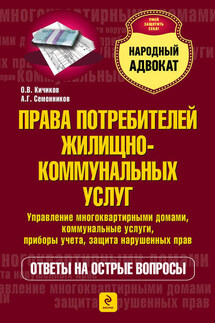Русский хлеб в жерновах идеологии - страница 32
Это и вынуждало европейские страны во всё большем объёме «докупать» недостающее зерно за рубежом. Русский хлебный экспорт был ответом на насущную европейскую потребность в хлебном импорте. Ибо Европа могла обеспечить себя зерном только на четыре пятых. Примерно пятая часть потребности (19 %) покупалась на внешнем рынке; при этом 6,3 % – у Российской Империи.
То есть доля России составляла одну треть от всего зерна, покупаемого Европой на внешнем рынке. Доля остальных стран–экспортёров (это, главным образом, США, Канада и Аргентина) составляла две трети. Вот откуда и пошли эти фантастические заблуждения: потому что треть (больше всех!) – доля России, а две трети – доля США, Канады и Аргентины вместе взятых. И именно с тремя этими странами–конкурентами сравнивали Россию дореволюционные статистические справочники. Возможно, в своё время престарелого эмигранта Бразоля подвела память…
А вот что касается заявления Пыхалова, будто в ходе Первой Мировой войны «выяснилось, что Европа вполне может без него (российского хлеба) обойтись», то для этого надо обладать изрядным нахальством!
Ко времени Первой Мировой богатая Европа успела уже поотвыкнуть от массовых народных бедствий, а тут на неё – прежде всего на страны Центрального блока – обрушился настоящий голод: продуктовые карточки, малосъедобный «военный хлеб» (норма выдачи которого в Германии опускалась до 170 граммов на человека в день), страшная «брюквенная зима» 1916–го – 1917–го, официальная пропаганда охоты на ворон, массовая смертность от недоедания… И, как итог, – готовность немецких представителей заключить мир в Бресте любой ценой (лишь бы поскорее начать получать хлеб с Украины!). Если исходить из структуры европейского предвоенного хлебного импорта, то как минимум на одну треть эти беды объяснялись исчезновением из рациона немцев российского хлеба.
Так что дореволюционная Россия действительно кормила Европу. Только не надо юродствовать и пытаться толковать образное выражение «кормила пол–Европы» в строго арифметическом смысле – как «обеспечивала 50 % всей совокупной потребности зарубежной Европы в зерне».
Глава 3
§ 3.1. Чтобы закончить с «внешней» стороной российского хлебопроизводства и полностью сосредоточиться на его внутренних аспектах, необходимо ответить ещё на один важный вопрос: а что получала Россия, продавая свой хлеб за рубеж? Иначе говоря: на что Империя тратила вырученные от хлебного экспорта деньги?
Конечно, торговля зерном – это не то же самое, что торговля высокотехнологичными товарами, «не имеющими аналогов». Передовые государства Западной Европы прежде всего выбрасывали на внешний рынок промышленную продукцию (приносившую большую прибыль, нежели продукция сельскохозяйственная). В то же время не надо забывать, что США – передовая промышленная держава! – были, наряду с Россией, одним из главных экспортёров зерна.
Это естественно. Если у государства есть условия для развития аграрного сектора, то почему бы этим не пользоваться?
Понятно, что богатая, передовая Америка, выбрасывая свой хлеб на внешний рынок, оставалась гарантированно сытой: средний американец (в том числе – американский фермер) питался значительно обильнее, разнообразнее и здоровее, чем средний русский крестьянин. Но бедная и отсталая страна тоже не может позволить себе существовать в режиме «автаркии». Как раз бедная и отсталая–то и не может!.. Ибо она особенно нуждается в импортных товарах – тех, которые не производит сама (или производит в ограниченном количестве). Такая страна выходит на внешний рынок с тем, что у неё есть. У Российской Империи был хлеб (был, конечно, не один только хлеб; но речь идёт прежде всего о нём).