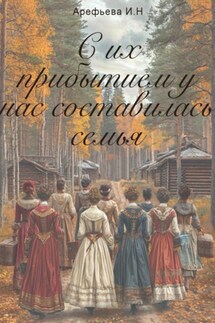С их прибытием у нас составилась семья - страница 29
Янв. 1826 г.>13
Еще не зная, какой будет приговор, Екатерина Трубецкая уже твердо решила следовать за мужем, куда бы его ни отправили. Не случайно на Руси говорили: «Нет выше той любви, как за друга душу свою полагать»>14. Любящая женщина не столько умом, сколько всей душой своей поняла: она должна быть рядом с мужем.
В поэме Н. А. Некрасова мужественная женщина, прощаясь с отцом, объясняет ему свой выбор:
В действительности 24 июля Екатерина Ивановна уехала с матерью в Москву: Александре Григорьевне необходимо было присутствовать на коронации Николая I. 27 июля Екатерина Трубецкая получила разрешение на отъезд в Сибирь, и, уезжая, она знать не могла, что больше никогда не увидит ни мать, ни отца. Долгие годы их будут соединять только письма, идущие одни – в Петербург, другие – в Сибирь.
Екатерина Ивановна мысленно собиралась следовать за мужем, куда бы его ни отправили, но Сергей Петрович, хоть и надеялся на не самый страшный приговор, понимал, что возможно и худшее. Однако жена добилась свидания. Через много лет в «Записках» Трубецкой передал то чувство благодарности, преклонения перед этой женщиной, которая спасла его от уныния, от страшных дум в первые дни его ареста. «В понедельник на святой неделе я имел неожиданное счастье обнять мою жену. (…) Не легко изобразить чувства наши при этом свидании. Казалось, все несчастья были забыты, все лишения, все страдания, все беспокойства исчезли. Добрый, верный друг мой, она ожидала с твердостью всего худшего для меня, но давно уже решилась, если только я останусь жив, разделить участь мою со мной и не показала ни малейшей слабости… До сих пор я не имел никакой надежды увидеть когда-нибудь жену мою, но это свидание заставило меня надеяться, что мы опять будем когда-нибудь вместе (…) Ничего отчаянного, убитого не было ни в лице, ни в одежде, во всем соблюдено пристойное достоинство».>15
Это свидание сыграло огромную роль в жизни князя Трубецкого: он уверился в том, что для него не все еще кончено, он поверил, что они еще будут вместе. Уже совершенно с другим чувством он принял свой приговор, и надежда давала ему силы во время тяжелой дороги в Сибирь: он теперь знал, что жена его не оставит, а значит, будет и дальше продолжаться жизнь, сил вынести трудности у него хватит. Однако все это произойдет позже.
Вернемся к тому времени, может быть, самому страшному, когда, в Петропавловской крепости заключенные ждали суда, формулировки их вины.
Наконец, 10 июля 1826 года, всех собрали «в большом зале комендантского дома». За огромным столом сидели члены совета, сенаторы и различные служащие. С. П. Трубецкой, как и С. Г. Волконский, всю жизнь помнили этот момент своей жизни. «Торжественно прочли каждому из нас, начиная с меня, сентенцию Верховного Уголовного Суда. Все мы были приговорены им к отсечению головы, которая казнь Императором уменьшена и заменена осуждением вечно на каторжную работу. (…) Я думал, что меня осудят за участие в бунте, меня осудили за цареубийство. Я готов был спросить, какого царя я убил или хотел убить».>16 И все же чувство, что осужден не на смерть, было сильным.
Далее в «Записках» С. П. Трубецкой описал процесс перехода дворянина, офицера в разряд «государственных преступников». Семерых вызвали из камер, провели перед знаменем Лейб-гвардии Семеновского полка, «прочли вновь сентенцию», сломали над головой шпагу; с трудом, но сорвали с него мундир. Примерно так же акт гражданской казни запомнил и С. Г. Волконский. В кострах горели блестящие мундиры офицеров, которые в Отечественную войну под пулями защищали свою Родину, а теперь на них надели тюремную робу.