С кем и за что боролся Сталин? - страница 11
Но по мере побед над оппозицией Сталин начал менять этот курс. В марте 1925 г. на V расширенном пленуме исполкома Коминтерна и в апреле на заседании Политбюро он озвучил совершенно иную идею, о «построении социализма в одной стране». В том же году была ликвидирована Военная комиссия Коминтерна, постановлением Политбюро прекращалась «активная разведка» – то есть диверсии, терроризм, создание боевых организаций. А в ноябре 1926 г. на той самой XV конференции, которая разгромила троцкистов и зиновьевцев, тезисы о «построении социализма в одной стране» были приняты официально, в качестве линии партии.
И эта же конференция приняла программу ускоренной индустриализации страны. В ее решениях указывалось: «Надо стремиться к тому, чтобы в минимальный исторический срок нагнать, а затем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталистических стран». Такая программа отличалась от «плавной» бухаринской (впрочем, после кризиса 1925–1926 годов Бухарин вполне согласился с ней). Но она имела и существенные отличия от троцкистской. Индустриализация предполагалась не за счет поставок из-за рубежа, а за счет собственных ресурсов. А иностранных концессионеров начали прижимать – неофициально, без шума. У них вдруг возникали непредвиденные проблемы. Советские чиновники выискивали в концессионных договорах невыполненные пункты, иные нарушения. Найдя благовидный предлог, требовали расторжения договоров. Зарубежным дельцам, раскатавшим губы на баснословную наживу, приходилось сворачивать дела и убираться домой.
Глава 3. Антисоветская эмиграция
Гражданская война выплеснула за границу 2 млн русских эмигрантов. Они рассеялись по разным странам. Ради куска хлеба трудились чернорабочими, грузчиками, судомойками. Впрочем, некоторые устроились очень неплохо. Например, заговорщики, обеспечившие в свое время свержение царя, тузы российских банков, промышленности, купечества, Терещенко, Рябушинский, Нобель, Гукасов и иже с ними. Они заблаговременно перевели капиталы за рубеж, создали в эмиграции свою организацию, Торгпром, включились в европейский бизнес.
Дядя Троцкого, банкир Абрам Животовский, обосновался в Стокгольме, где у него имелась совместная фирма с Олафом Ашбергом – шведским банкиром, через него перед революцией шло финансирование большевиков. Теперь они вместе занялись перепродажей на Запад русского золота и ценностей. Потом Животовский перебрался в Париж. Принялся организовывать «замаскированный советский банк» с бывшими российскими банкирами Абрамом Добрым, Цейтлиным, Лесиным, Высоцким, Златопольским. А родственные связи в Москве помогли получить для этой цели 25 млн франков от Советского правительства.
Бывшие дипломаты, в распоряжении которых остались весьма значительные суммы, объединились в Совет Послов. В эмиграции возникло несколько русских масонских лож – «Северное сияние», «Северная звезда», «Северное братство», в них входили многие видные политические и общественные деятели: Чайковский, Керенский, Кускова, Амфитеатров и др. Но между собой эмигранты не были едиными. Ведь за границей очутился весь спектр партий и движений от монархистов до анархистов. Добавились споры по поводу причин поражения, дальнейших судеб России, соперничество лидеров. Поэтому организаций появлялось очень много. Только во Франции их было зарегистрировано более 300.
Монархисты создали Высший Монархический Совет (ВМС), но тут же размежевались на «франкофилов» и «германофилов», на сторонников великих князей Кирилла Владимировича и Николая Николаевича. Партия кадетов раскололась на «левое» и «правое» крыло, эсеры – на 7 или 8 группировок. Меньшевики сохранили партийное единство, но продолжали исповедовать марксизм, а после ужасов гражданской войны это учение стало у русских очень непопулярным.
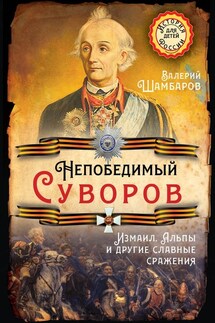



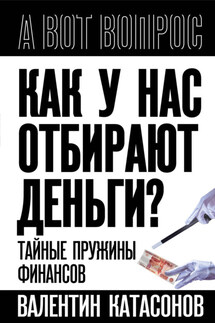


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



