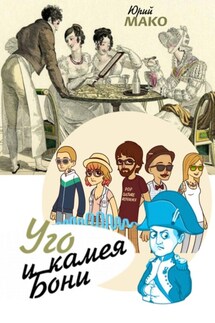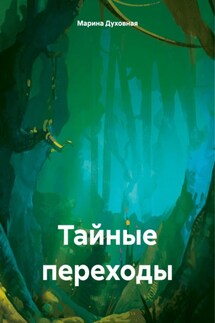Сага о викинге: Викинг. Белый волк. Кровь Севера - страница 44
Вот так я стал дренгом. То есть младшим воином хирда. Меня устраивало. Я в генералы не стремлюсь.
Потом мы наконец сели кушать. Вернее, пировать. Ярл не поскупился: выкатил пива (из трофеев), которое отлично пошло под свежую дичь и вяленую рыбку.
Когда первый голод был утолен, руководство принялось делить добычу. Все уже было скрупулезно пересчитано в соответствии с денежным (вернее, серебряным) эквивалентом, выделена доля в общак и определены товары, которые в дележку пока не войдут, потому что их надо сначала продать. Сам захваченный кнорр становился коллективной собственностью, но если кто-то, по желанию или необходимости, должен был покинуть компанию, то ему выделялась доля в соответствии с рыночной стоимостью кнорра на текущий момент. Все эти бухгалтерские выкладки были мне совершенно неинтересны, но, к моему удивлению, все викинги, даже самые тупые, слушали очень внимательно, постоянно что-то уточняли, оспаривали, и Ольбарду, который на правах кормчего заведовал казной, приходилось отвечать, убеждать и даже наезжать авторитетом на особо упрямых.
Каждый простой викинг имел одну долю. Командиры вроде Трувора (они назывались – хольды) – две. Кормчий – три. Сам ярл получал львиный кусок: каждый рум драккара соответствовал одной доле. Драккар был собственностью ярла и стоил немало. Да, в случае, если викинг выказывал какую-то особенную доблесть, ему добавляли еще долю. Или лично ярл делал подарок. В прошлом бою особо выдающихся не было. Это понятно: чтобы как-то выделиться на фоне этих безбашенных храбрецов, требовалось совершить что-то невозможное.
Меня дележка не касалась. На момент битвы с Торстейном я еще не был полноправным членом общества. Однако…
Однако это давало мне и кое-какие бонусы. Например, имущество убитых мною лично, один на один, ворогов не вносилось в общий котел, а отходило непосредственно мне.
Мне достались очень приличные наборы доспехов: два добротных, чешуйка к чешуйке, панциря (оба, к сожалению, были велики); два щита, на одном из которых, кстати, красовалась руна тейваз; пара «очковых» шлемов, причем один – с кольчужным тыльником и «воротником»; пара боевых поясов со всеми нужными кармашками и множеством мелких полезных вещей. И с деньгами, кстати. Каждый из убитых носил при себе некоторую сумму (остальное, как потом пояснил Трувор, хранилось у казначея) и украшений. То есть я «приобрел» три серебряных браслета общим весом граммов двести и золотую цепку граммов на пятьдесят. Из наступательного вооружения мне достались два меча неплохой ковки, пара топоров, копье, явно для меня слишком тяжелое, пяток метательных ножей, нож простой и один полноценный кинжал, похоже, арабской работы. Ну и еще много чего – по мелочи. Досталось мне также и имущество принесенного в жертву парнишки. Сначала я к нему отнесся пренебрежительно (даже меч – примитивная кое-как закаленная железяка), но Трувор меня переубедил. Сказал, что за эту «железяку» мне любой кузнец охотно заделает (да еще и приплатит) дыру, пробитую мною в панцире, когда тот еще не был моей собственностью.
На следующий день, пока половина викингов выгоняла похмелье, а вторая бездельничала, мы с ним пошли к Ольбарду, который принял на хранение все, что нужно, поменял один из мечей на более легкий – и ничуть не хуже (второй я решил оставить), подарил вместо подкольчужника толстую фуфайку, на которую целый панцирь лег почти прилично, и выдал объемистый кожаный мешок с завязками, куда я должен был сложить свое личное оружие (ножи и кинжалы – не в счет), когда мы находились в походе и без перспектив подраться.