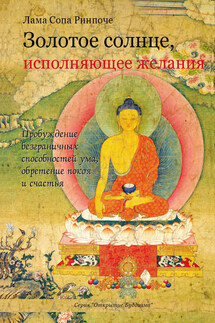Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже - страница 15
Я повертел запонки под светом настольной лампы. Тусклый свет скользил по серебру, обнажая сеть мелких царапин и вмятин – следы чьей-то жизни. Взял лупу и стал внимательно рассматривать гравировку. Под буквами я разглядел едва заметный символ – крохотную пятиконечную звезду с серпом и молотом внутри. А по окружности шёл затейливый, почти незаметный орнамент.
– Интересно, – подумал я вслух. – Литейный проспект, 1938 год…
От этого сочетания слов по спине пробежал не просто холодок – прошёл настоящий сквозняк, пахнущий сыростью казённых коридоров и дешёвым табаком. В голове тут же всплыл номер дома, который в Ленинграде знал каждый, хоть и старался не произносить его вслух. В.К.… Картина разом прояснилась, и от этой ясности стало только гаже.
В голове будто провернули старую мясорубку, забив её обрывками газет, ржавыми значками и окурками. Ежов. Безродные космополиты. Большой террор. Ленинградское дело. Расстрельные списки.
Из этого хаоса, без всякого приглашения, начала прокручиваться кинохроника. Сначала я видел это будто со стороны: большой зал, тяжёлые красные знамёна, ряды одинаковых стульев. Но в какой-то момент зернистая картинка обрела цвет и объём, запахи стали реальными, а я оказался не зрителем, а одним из тех, кто сидит в зале, вжавшись в жёсткое дерево. Гипсовый бюст Дзержинского на деревянной тумбе смотрел в никуда, но было полное ощущение, что он видит всех и каждого насквозь. Воздух в зале был густой, как сироп, пропитанный запахом мастики, табака и пота застывших в креслах людей. На трибуну, тяжело ступая, так, что скрипнула половица, поднимается товарищ Сталин. Невысокий, усатый, с трубкой в руке. Он говорит негромко, но каждое слово падает в мёртвую тишину зала, как капля свинца в воду.
И тогда-то он и посмотрел прямо на меня.
– Товарищ В.К., – произносит он с лёгким акцентом, и я чувствую, как холодеет под ложечкой. – Ви показали сэбя вэрным сином партыи. Ваши чистая голова, горячие руки и холодное сэрдце – это то, что нужьно совэтскому народу. Благодарю за служьбу. Носитэ… пока.
Это «пока» прозвучало особенно зловеще, повиснув в воздухе, как дымок от его трубки. Он протянул почему-то мне коробочку с запонками, и я увидел его сухие, короткие пальцы. И тут же, заметив какую-то невидимую мне ошибку, он нахмурился и поправил, обращаясь уже не ко мне, а ко всему залу:
– Голова холодная, руки чистые, а сердце – горячее.
Я отложил запонки, потёр виски. Мысли путались, сбивались в клубок, как мокрая паутина, что липнет к лицу в тёмной парадной.
Забулькал на кухне закипевший чайник, выдернув меня из этого бреда. Налил чаю. Подумал, может, коньяка? Решил, что ещё рановато для серьёзных напитков. Хотя, какая, к чёрту, разница – рано, поздно. Время в Петербурге – понятие в высшей степени относительное. Особенно когда имеешь дело с призраками прошлого.
За окном снова раздался хриплый вскрик. Я вздрогнул. На секунду мне показалось, что ворона отчётливо произнесла: «Бе-ри-я». Глупости, конечно. Откуда ей знать, кто это такой. Просто каркает. Наверное.
Махнул стопку коньяка, который всё-таки материализовался на столе. Пожевал дольку лимона, почти не чувствуя вкуса. И снова уставился на запонки. В.К. Кто же ты? Палач? Или жертва? А может, и то и другое в одном личном деле?
Глоток горячего чая. Так, стоп. Надо собраться. Подумать логически. С чего начать поиски? Библиотеки? Старые подшивки газет? Перелопатить тонны бумаги ради одной фамилии? Бред. Поспрашивать прохожих на Литейном? «Простите, вы случайно не знаете чекиста В.К. из тридцать восьмого?» Абсурд, конечно. Но чем абсурднее метод, тем больше шансов на успех. Особенно в России. В этом есть своя, вывихнутая логика.