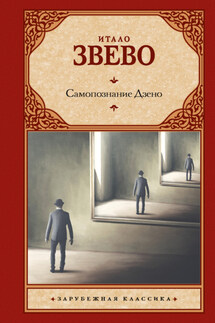Самопознание Дзено - страница 16
В общем, рядом с отцом я выглядел олицетворением силы, и порой мне кажется, что его смерть я ощутил как огромную потерю именно потому, что рядом со мной не было больше этой слабости, столь меня возвышавшей.
Помню, как проявилась эта слабость, когда негодяй Оливи стал принуждать его написать завещание. Оливи был очень заинтересован в завещании, по которому все мои дела после смерти отца отходили под его опеку, и ему, должно быть, пришлось немало потрудиться, чтобы заставить старика выполнить печальную обязанность. Наконец отец решился, но с той поры его круглое простодушное лицо омрачилось. Он теперь постоянно думал о смерти, словно, совершив это действие, вступил с нею в какой-то контакт.
Однажды вечером он меня спросил:
– Как ты считаешь, со смертью все исчезает?
Я сам все время размышляю о таинстве смерти, но в ту пору я еще был не в состоянии сообщить ему интересующие его сведения и, чтобы доставить ему удовольствие, тут же сочинил приятнейшую картину нашего будущего существования:
– Я думаю, что после смерти нам останется только наслаждение, потому что страдание перестанет быть необходимым. Разложение, по-видимому, будет похоже на сексуальное наслаждение. Оно обязательно должно сопровождаться ощущением радости и покоя, поскольку созидание и рост были так мучительно трудны. Разложение дается нам в награду за жизнь!
Мое выступление потерпело полный провал. Мы сидели тогда за столом, только что отужинав. Ничего не ответив на мою тираду, отец допил свой стакан и сказал:
– Не время мне сейчас философствовать, а уж в особенности с тобой.
И ушел. Сожалея о сказанном, я отправился было следом, собираясь побыть с ним и отвлечь его от грустных мыслей. Но он отослал меня, сказав, что я напоминаю ему о смерти и связанных с нею «удовольствиях».
Он не мог выкинуть из головы свое завещание до тех пор, пока не сообщил мне о нем. Он вспоминал о нем всякий раз, когда меня видел. И однажды вечером не выдержал:
– Должен тебе сказать, что я написал завещание.
Стараясь отвлечь его от мрачных мыслей, я скрыл удивление, вызванное этим сообщением, и сказал:
– А вот мне, наверное, не придется об этом беспокоиться: я надеюсь, что мои наследники перемрут раньше.
Отца огорчило и взволновало то, что я смеюсь над столь серьезными вещами, и в нем сразу же проснулось его обычное желание меня наказать. И поэтому ему уже было совсем легко рассказать мне о том, какую он сыграл со мной злую шутку, учредив надо мной опеку Оливи.
Должен сказать, что я показал себя хорошим сыном, ибо не возразил ему ни единым словом; мне хотелось, чтобы он скорее отвлекся от мрачных мыслей. Я сказал, что какова бы ни была его последняя воля, я готов ей повиноваться.
– А может быть, – добавил я, – я сумею в дальнейшем вести себя так, что ты сочтешь возможным изменить свою последнюю волю.
Это ему понравилось; в моих словах он увидел доказательство того, что я верю в его долгую, очень долгую жизнь. Тем не менее он заставил меня поклясться, что в случае, если его воля останется неизменной, я никогда не попытаюсь ограничить полномочия Оливи. И я поклялся, ибо одного честного слова ему было мало. Я вел себя так кротко и так послушно, что теперь, когда меня начинают мучить угрызения совести по поводу того, что я недостаточно любил отца при жизни, я всегда воскрешаю в памяти эту сцену. Но чтобы быть правдивым до конца, я должен признаться, что повиноваться его воле мне было довольно легко, потому что в ту пору мне даже нравилось думать, что мне не придется работать.