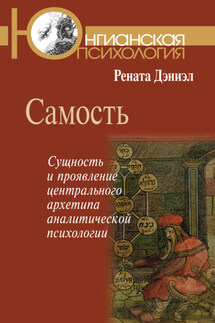Самость. Сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии - страница 7
«Эго, по определению, подчинено Самости и относится к ней как часть к целому. ‹…› Однако, как только наша свободная воля обнаруживает свои пределы, то тут же ‹…› вступает в конфликт с фактами Самости ‹…› В самом деле, хорошо известно, что Эго не только бессильно против Самости, но иногда даже ассимилируется бессознательными компонентами личности, пребывающими в процессе развития, и сильно изменяется под их воздействием…» (Jung, GW: 9/2, 9).
Вследствие постулата Юнга о связи между более слабым Эго и более могущественной Самостью может сложиться неприятное, вызывающее отторжение представление о том, что Эго является неполноценным, слабым[1]. Однако такое нелестное мнение было бы односторонним. Французский пианист Люка Дебарг знает по собственному опыту о том, что более могущественная Самость может оказывать на Эго живительное и плодотворное воздействие:
«Музыка глубоко духовна. Она имеет дело с душой. Надо быть очень внимательным и открытым окружающему. Речь не идет об Эго. Я, например, вообще не знаю, чего я хочу. Я принимаю естественный ход событий. Я не могу иначе. Я просто делаю то, что дóлжно» (Debargue, 2016).
Люка Дебарг говорит о том, что старается держать свое Эго открытым потоку бессознательного, и ему видится, что без этого нельзя. Подлинная задача Эго состоит в том, чтобы впитывать творческое содержание, в данном случае музыку, и придавать ему форму, как для себя, так и для других. Источник творчества, таким образом, находится в коллективном бессознательном, о чем писала также Янне Теллер. Это явление известно и ученым. Говорят, что химик-органик Август Кекуле открыл кольцевую структуру молекулы бензола после того, как увидел внутренним взором змею, кусающую собственный хвост. Кекуле много размышлял о структуре бензольного кольца, но его размышления оставались бесплодными, пока однажды, задремав, он не увидел в своем воображении этот образ. Прорыв оказался возможным благодаря тому, что его Эго уделило внимание этому образу, а не сочло его нелепым либо несущественным. Только осознающее Эго способно обнаружить сокровища. Самость нуждается в Эго, чтобы обнаружить и проявить себя. В конечном итоге Эго и Самость нужны друг другу, поэтому вопрос главенства в принципе неактуален. Вот что пишет по этому поводу Ангел Силезский:
«Я так же велик, как Бог, Он так же мал, как я:
Он не может быть надо мною, я не могу быть под Ним» (цит. по: Hultberg, 2009, S. 225).
Образы Бога, известные с незапамятных времен, не говорят нам напрямую о возможности существования Бога. Физик Вольфрам Шоммерс (Schommers, 1997, S. 498), а также нейробиологи Солмс и Тернбулл (Solms&Turnbull, 2004, S. 69) полагают, что мы в принципе не можем делать какие-либо научно обоснованные утверждения о фундаментальной реальности либо говорить о существовании или несуществовании Бога, поэтому нам следует довольствоваться его образами. При этом мы не знаем, в какой степени эти образы близки истинной конфигурации фундаментальной реальности. Это исходное допущение перекликается с определением архетипа по Юнгу; оно представляют для нас интерес в связи с тем, что Юнг считал архетип Самости самым главным архетипом (Jung, GW: 9/2, 422). Подобно любому другому архетипу, Самость саму по себе невозможно увидеть воображением, она непостижима и не поддается определению, поскольку составляет часть фундаментальной реальности. И как любой другой архетип, Самость можно лишь с большей или меньшей точностью представить в в образах, символах или аллегориях. Архетип Самости преимущественно проявляет себя в образах Бога в различных религиозных традициях. В плане психологии эти образы и сами системы верований представляют собой проекции психических процессов. Самость, как и любой другой архетип, непознаваема и скрыта за этими проекциями. Это, в свою очередь, не означает, что люди не могут иметь доступ к этой реальности, преодолевая «границы» с помощью интуиции, видения или переживания.