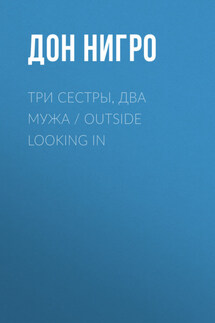Сериал с открытым финалом. Участь человечности в зеркале кинематографа - страница 21
Наконец, политические мотивы
«Эх, яблочко, да цвета зрелого.
Любила красного, любила белого.
Любила красного, любила белого».
Как вариант
«Эх, яблочко цвета макова,
Я любила их одинаково,
Я любила их одинаково».
Еще вариант
«Эх, яблочко цвета ясного,
Ты за белого, я за красного,
Ты за белого, я за красного».
Зловещее предупреждение
«Эх, яблочко, куда ж ты котишься,
К черту в лапы попадешь,
Не воротишься.
К черту в лапы попадешь,
Не воротишься».
Частушечное предупреждение довольно быстро оправдалось. Не прошло и десяти
лет, как революционное яблочко оказалось в лапах Сталина.
Едва ли автор «Красных дьяволят» вкладывал в свою картину ту амбивалентность, что просматривается в ней сегодня. Но такова уж природа мифологических сказаний: они открыты для двусмысленных толкований. Перевес одному из них дает исторический контекст на момент встречи со зрителем…
Фильм в прокате имел значительный успех у тех «людей» (по Бунину), что очаровались победным маршем «революционного народа».
Постреволюционный народ, сильно потрепанный репрессиями, войной, идеологическими инъекциями, в 1967 году обнаружил воротившееся к нему «яблочко» под названием «Неуловимые мстители». Тут уже днем с огнем не отыщешь что-либо похожее на амбивалентность. Это всего лишь старательно снятое приключенческое кино с претензией на некоторую «вестерновость». И еще – советская идеология, сдобренная советской метафорикой:
«И над степью зловещей ворон пусть не кружит…
Мы ведь целую вечность собираемся жить…»
Четыре всадника в буденновках удаляются в сторону рыжего солнечного диска, обещая:
«Если снова над миром грянет гром,
Небо вспыхнет огнем,
Вы нам только шепните,
Мы на помощь придем».
Им еще пару раз «шепнули», и они дважды приходили на помощь советскому жанровому кинематографу с фильмами «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи», но славы ему не сыскали. То было чистое трюкачество, не имеющее никакого отношения ни к мифологии Гражданской войны, ни, тем более, к ее истории.
На суд вызывается фильм Якова Протазанова «Сорок первый», снятый в 1926 году как свидетель защиты, а возможно, и обвинения.
Самострел Марютки
Кинорежиссер Яков Протазанов – один из самых плодовитых мастеров русского дореволюционного кино, с огромным опытом, с впечатляющим списком снятых картин (более ста названий), среди которых в первую очередь стоит вспомнить «Николая Ставрогина» (1915 г.), «Пиковую даму» (1916 г.), «Отца Сергия» (1918 г.). Остальные главным образом примечательны кричащими заглавиями типа: «Женщина с кинжалом», «Арена мести», «Один насладился, другой расплатился», «Женщина захочет – черта обморочит» и т. д. Это то, что впоследствии стало называться «бульварным месивом». Вернувшись из эмиграции в начале 1920-х годов, он обратился к советской тематике. Для начала – авантюрная фантастика «Аэлита». Затем показательное выражение лояльности к новой России – фильм «Его призыв», снятый к годовщине смерти Ленина. Далее еще три заметные советские картины, отразившие настроения нэпманской Руси, «Процесс о трех миллионах», «Закройщик из Торжка» и «Дон Диего и Пелагея», и, наконец, фильм, стоящий особняком в творческой биографии режиссера, «Сорок первый».
Нельзя сказать, что Протазанов был хотя бы сколько-нибудь глубоким исследователем страстей человеческих. Но, несомненно, он знал им цену и был, по крайней мере в дооктябрьскую пору, их неустанным коммивояжером.