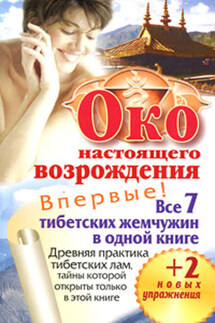Шамбала. Прошлое или будущее мира? - страница 15
Выходит так, что «современное мышление» ставит на одну доску глубочайший религиозный пантеизм индусских и буддийских философов и мимолетные капризы пессимистических материалистов, полностью их отождествляя. И того, что их разделяет непроходимая пропасть, похоже, никто не замечает. Никто не желает видеть, что пантеист не признает реальностью проявленный Космос, считая его всего лишь иллюзией собственных чувств, и потому необходимо рассматривает свое собственное существование тоже как скопление иллюзий. То есть, когда он говорит о способе избавления от страданий вещественной жизни, его мнение о природе этих страданий и мотивация его призывов к окончательному уходу из этой юдоли слез полностью отличны от тех, которые пропагандирует пессимистический материалист. Для него (пантеиста) боль и страдания иллюзорны и происходят вследствие его собственной привязанности к этой жизни, продиктованной исключительно невежеством. Поэтому он стремится к вечной и неизменной жизни, к достижению абсолютного сознания в состоянии нирваны; в то время как европейский пессимист, принимая жизненное «зло» за реальность, мечтает (когда у него появляется время мечтать о чем-либо ином, кроме этих самых земных реальностей), по его собственным словам, о полном «прекращении существования». Для философа существует только одна реальная жизнь – блаженство нирваны, качественно отличающееся от всех имеющихся в проявленной Вселенной уровней сознания; пессимист же называет «нирвану» суеверием и отождествляет с «прекращением жизни», ибо жизнь для него начинается и заканчивается на земле; тогда как первый пренебрегает в своих духовных устремлениях даже первоначальным гомогенным единством, которым спекулируют теперь немецкие пессимисты. Философ знает и верит, что и у этого единства есть своя причина – вечная и бессмертная, ибо она никем и ничем не сотворена (иными словами, она не является результатом предыдущей эволюции). Следовательно, его усилия направлены на скорейшее воссоединение с этой первопричиной, возвращение в допервоначальное состояние, возможное лишь после прохождения по иллюзорной дороге призрачных жизней с их нереальной фантасмагорией чувственных восприятий.
Подобный пантеизм может считать «пессимистическим» только тот, кто верит в персональное провидение; тот, кто готов противопоставить отрицанию реальности всего «сотворенного», т. е. обусловленного и ограниченного, свою собственную слепую и нефилософичную веру. Восточный ум не пытается выискивать зло в каждом фундаментальном законе и проявлении жизни, он не рассматривает каждый феномен как неизбежное умножение зла (зачастую мнимого); восточный пантеист просто подчиняется неизбежному, но старается сбросить со своего жизненного пути как можно больше будущих «нисхождений в перевоплощение», избегая, по мере сил, создания новых кармических причин. Буддийскому философу известно, что продолжительность чередования жизней каждого человека (если только он не достигнет нирваны «намеренно» или, как говорят каббалисты, если он не «возьмет царство Божие силой») аллегорически представлена в виде истории о сорока девяти днях, проведенных Гаутамой Буддой под деревом Бо. А индусский мудрец знает, в свою очередь, что ему надлежит зажечь первый и погасить сорок девятый огонь (сорок девять «дней» и сорок девять «огней» – это 7, умноженное на 7, и поймет, что эта аллегория эзотерически указывает на семь последовательных человеческих коренных рас и семеричное деление каждой из них. Все монады рождаются в первой и освобождаются в последней, седьмой расе. Только Будда, как говорят, смог достичь освобождения в течение одной жизни), – прежде чем он достигнет окончательного освобождения. Зная все это, мудрец и философ терпеливо ждут естественного часа своего освобождения; в то время как их злосчастный подражатель – европейский пессимист – всегда готов совершить самоубийство, которое с такой уверенностью пропагандирует. Не зная о том, что гидра существования имеет бесчисленное множество голов, он не может относиться к жизни с таким же философским презрением, с каким относится к смерти, и потому неспособен следовать мудрому примеру своих восточных братьев.