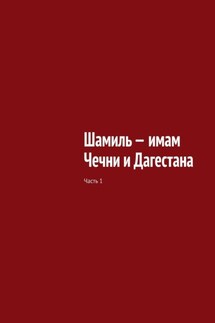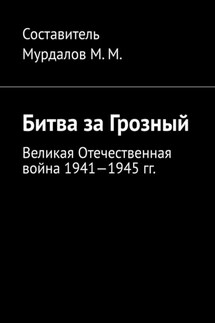Шамиль – имам Чечни и Дагестана. Часть 1 - страница 79
И нужно же нам было такое счастье, чтобы на этот раз чеченцы, жители Рошни, оказались полнейшими балбесами: ну, как быть настолько беспечными и беззаботными, чтобы, настроив и нагородив сотни разных защит и оборон, не держать при них, в особенности в начале леса, ни одного наблюдательного поста, ни одного даже сторожа?!..
И вот, барон Вревский, по дремучему неприятельскому лесу идет себе с целою колонною, словно по херсонской привольной степи, идет – и благополучно минует этот лес. Кавалерия, при которой он сам находился, явилась у внутренней опушки леса ранее пехоты и артиллерии, и начальник колонны, остановившись на этом месте, стал поджидать их. Словом, все происходило так спокойно и уверенно, как будто войска маневрировали где-нибудь в обширном, благоустроенном домашнем парке или в заранее расчищенном и приспособленном по заказу собственном лесу.
Мы изощряемся и ухитряемся во время наших строевых учений и маневров то устраивать, то изыскивать для солдата разные затруднения при движениях, чтобы приучить его и к выбору местности, и к уменью ориентироваться, к искусству нападения и т. п. Что может быть лучше, если все эти топкости он изучает по необходимости, но на родном, а на неприятельском поле? Один такой урок стоит двадцати пяти разных искусственных задач и приспособлений. И что же после этого удивляться ловкости бывшего кавказского солдата и его военным действиям! Как не признать, что один год такой школы в Чечне стоил двадцати лет, проведенных солдатом нашей внутренней армии на разных ученьях и маневрах, в каком-нибудь селении Ивановском, в деревеньке Подгорной, в слободе Никольской.
Вот где бывшая кавказская армия черпала свое разностороннее практическое военное образование, свой закал, свою удаль и переносливость.
В девять с половиною часов утра вся колонна стянулась у выхода из леса на поляну, и я думаю, что не только многие командиры и начальники частей в душе перекрестились, но и сам барон Вревский свободно вздохнул всею грудью: крайняя опасность миновала; теперь оставались пустяки – подраться и победить, а затем – отступить.
Последнее условие барон Вревский тотчас поставил первым и главным. Он оставил на опушке второй батальон егерского князя Чернышева полка и команду сапер и приказал им вырубить, сколько успеют, лес по сторонам верхней тропы, засыпать часть рва, чтобы удобно провезти орудия, и вообще уничтожить какие только возможно местные препятствия к безостановочному и благополучному отступлению. С остальными войсками он двинулся вперед.
Глазам отряда представилась обширная поляна, имевшая форму эллипсоида, на которой в разных местах тесными кучами были расположены аулы. Поляна эта имела в ширину от севера к югу версты четыре и в длину – версты две. От северной оконечности своей у правого берега Рошни и по восточной стороне она окаймлялась лесом, который, приближаясь к югу, все уходил в сторону, вдаль, делая ее в этом месте несколько шире; с юга перерезывалась она глубоким оврагом, за которым постепенно поднимался хребет гор, образующий правый край верхнего рошнинского ущелья. По левому берегу тянулись последние уступы горного кряжа, отделяющего это ущелье от гехинского; горы и прилегающая к ним местность были закрыты лисом.
Оказалось, что в настоящее время аулы были пусты и в них оставалось кое-какое домашнее имущество; жители, с наступлением зимы, из предосторожности, оставили аулы и переселились далее в лес, в хутора; в аулах же находились весьма немногие.