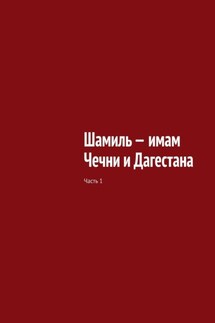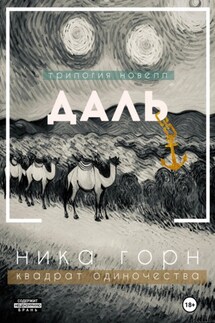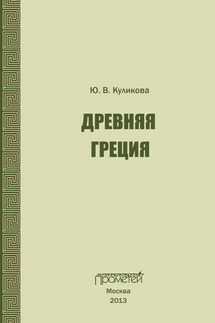Шарой – история Чечни. XV—XXI век - страница 13
Между тем сумрачный день становился все яснее и яснее. Кое-где по ложбинам еще курился туман. Солнце, прорываясь сквозь густую пелену облаков, поднимало их все выше и выше. Дорога подбежала к самому берегу и по глинистому, хрещеватому грунту стала углубляться в Харочоевское ущелье, по левому боку, приподнятому сажени на две, обрывистому в реке Хулхулау, которая точно с разбегу, широко разливается по руслу и, ударяясь о высунувшиеся с берега для защиты дороги плотины, шумно отступает вправо. Короткое в длину, просторное в ширину Хорочоевское ущелье залегает в одной из складок южной гряды Черных гор: Чермой-лама и Гизгин-лама, среди невысоких хребтовс пологими склонами, опущенными довольно густым смешанным лесом, который у подошвы или переходит в кустарник, или совсем исчезает, и ярко-зеленые скаты, там и сям рассеченные белыми известняковыми осыпями круто сбегают к широкому дну, сплошь заваленному белой галькой из известняков, т. е. тою самою породою, из которой сложены окружающие горы. Холмистые вершины Чермой-лама и Гизгин-лама совершенно обнажены и представляют лучшие в Ичкерии покосные луга и пастбища. В настоящее время земли эти составляют собственность казны и арендуются ичкеринцами. Хорочоевское ущелье служит одним из ближайших путей, по которому производятся торговые сношения, обмен продуктов между Дагестаном, Ичкерии и вообще Чечней. Мы то и дело встречали лезгин в громадных бараньих шапках, сопровождавших целые вереницы лошадей, нагруженных то дагестанскими фруктами и бурками, то чеченской кукурузой, которая вывозится в громадном количестве и главный продукт земледельческого труда, единственный почти источник благосостояния, к которому направляются все мирные думы чеченца, тревоги, печали и воздыхания его; он воспевает ее в своих песнях, вводит в пословицы: «Без кунаков (друзей) домохозяин, что без кукурузного зерна мельница», гласит чеченская пословица. – По религии чеченец магометанин, но такой же магометанин, как осетин христианин, т. е. видит в религии одну внешнюю обрядовую сторону, совершенно не вникает смысл и значение этих обрядов и далеко не проникнут сознанием величия Бога и смирением пред его всемогущей волей.
«Шел один бедный чеченец по своему кукурузному полю», начинается один из наиболее распространенных и любопытных чеченских рассказов, «шел и радовался: кукуруза уродилась у него прекрасная! – «Благодарю тебя, Господи, что послал мне такой обильный урожай!» – возглашал он с благодарностью, вознося глаза к небу, и стал уже мечтать, как поправит свое хозяйство и заживет не хуже других своих соседей. – «Да и почему бы Богу не дать мне такого урожая?» уже совершенно ободренный мечтами спрашивал он себя: «разве я не аккуратно молюсь пять раз в день, не держу уразы (постов), не соблюдаю праздников?»… И чем больше думал чеченец на эту тему, тем все больше и больше убеждался, что почти безгрешен перед Богом и что урожай послан ему вполне по заслугам. Между тем на небе давно уж появилась туча и пока, погруженный в свои размышления чеченец дошел до противоположного конца кукурузного поля, туча разрослась грозою: грянул гром, пошел сильный град и выбил всю кукурузу. Уцелел только один стебель, под деревом. Чеченец пришел в ярость, грозно взглянул на небо и крикнул «ну, Бог, целься хорошенько и в то, что уцелело под деревом!».
Как видно из этого краткого рассказа религиозное мировоззрение чеченца не глубоко, не выходит из пределов чисто внешнего представления об обязанностях, налагаемых религией, а понятие его о Боге далеко от того нравственного идеала, перед которым даже в несчастье смиряется дух истинно верующего. В этом отношении чеченцы мало отличаются от язычников.