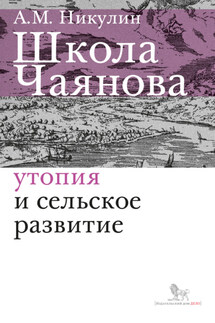Школа Чаянова. Утопия и сельское развитие - страница 10
По прошествии XX века мы и сегодня убеждаемся, что по крайней мере в России сплоченная олигархия советского типа, придерживающаяся идеалов симбиоза экономики и культуры, не только на словах, но и на деле могла добиваться впечатляющих результатов. Впрочем, Чаянов, в случае кризиса утопической Англо-Франции упоминая об «олигархическом вырождении» ее политической системы, кажется, не рассматривал этот негативный момент применительно к России.
Оптимумы рационально-эстетского аграризма и постаграрного будущего
Третья утопия А.В. Чаянова – «Возможное будущее сельского хозяйства»[37], опубликованная в сборнике статей «Жизнь и техника будущего: социальные и научно-технические утопии», – была написана накануне коллективизации, и, следовательно, ее автор из-за усиливающихся политических гонений уже был вынужден избегать конкретных социальных прогнозов, предпочитая концентрироваться на прогнозах научно-технических[38].
Год появления этой утопии (1928) ознаменовался печально знаменитым кризисом хлебозаготовок, повлекшим разрыв нэповской смычки города и деревни, который большевистское руководство стремилось, с одной стороны, преодолеть через внеэкономическое принуждение крестьян к сдаче хлеба, а с другой – форсировать амбициозные планы индустриального развития первой пятилетки.
Возможно, именно в предчувствии надвигающихся «великого перелома» коллективизации и «большого скачка» индустриализации во введении к последней утопии Чаянов постулирует в начале не только определенное отличие аграрной отрасли от индустриальной, но и обещает показать в финале своей утопии, как в конце концов агрикультурное развитие закончится «окончательной катастрофой и отменой земледелия», после чего в сельском хозяйстве лишь ненадолго останутся «декоративное садоводство, превращающее в парки поверхность нашей планеты, да, пожалуй, изготовление некоторых фруктов и вин, тонкая ароматность и вкусовые качества которых все-таки еще долго не смогут быть заменены продуктами массового производства»[39].
Временной горизонт утопии составляет, по словам самого автора, 50-100 лет. Это чаяновское уточнение важно для нас: прибавив к 1928 году 50 лет, мы, как уже теперь знаем, попадаем в разгар «зеленой революции» конца 1970-х годов, а прибавив еще лет 50 (то есть оказавшись на 10-12 лет впереди нашего времени), мы можем вообразить апогей современной биотехнологической революции.
Структурно-хронологически эта научно-техническая статья также двухтактная. Первому историческому полувековому такту посвящена первая часть «Основная проблема сельского хозяйства и методы ее разрешения», а более отдаленным перспективам сельскохозяйственного развития – часть вторая «На путях к сельскохозяйственной утопии». Вместо заключения выступает третья часть – финально апогейная, чрезвычайно краткая, с характерным названием «Отмена земледелия».
Итак, в начале статьи утверждается, что основная проблема земледелия заключена не в тайне самой почвы, ее соков и ее плодородия – в старинно-поэтическом восприятии сельского хозяйства, а в научном понимании процессов взаимодействия воздуха и солнечного света, под которыми «следует подразумевать не столько землю как таковую, сколько поверхность, на которую падают солнечные лучи; вот эта-то поверхность, заливая солнечной энергией и соприкасающаяся с воздухом, и есть, в сущности говоря, основа земледельческого производства»