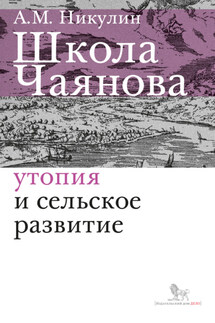Школа Чаянова. Утопия и сельское развитие - страница 23
Иерархия, профессионализм, демократия – утопия храма науки
Здесь мы вновь обратимся к универсальным социальным положениям организационно-производственной школы Чаянова, где универсальность прежде всего заключалась в примате конкретности ситуации для принятия решения. В большой крестьянской семье, когда у взрослых родителей самые старшие дети еще отроки, а остальные вообще малыши, в чем заключается главный резерв существования семейства? В способности включения подростков в помощь родителям в крестьянском труде и в воспитании младших. Ведь отцу с матерью всего уже не потянуть и за всем не поспеть, уж слишком разрослось хозяйство и прибавилось детей; малыши еще слабосильные и несмышленые, но отрочество и является в такой крестьянской семье источником существенной помощи для старших и младших, для всей семьи. В высшей школе Чаянов также обнаруживает источник рациональной оптимизации процесса передачи и приращения звания – это «…организация широкой ассистентуры, или системы тьюторства»[79], то есть студенты-старшекурсники, аспиранты, молодые преподаватели, которые через беседы, семинары, кружки оперативно и достаточно широко вовлекают учеников высшей школы в поток научной деятельности. При этом Чаянов выделял определенную роль высшей школы в воспитании души и развитии интеллекта студентов младших курсов, замечая, что «…подавлявшая масса наших первокурсников не умеет ни логически мыслить, ни следить за чужими мыслями, ни читать книги, ни выражать свои мысли»[80]. Как прорастить семена творчества и мастерства в душах этих людей? Для успешного формирования личности студента Чаянов полагал необходимым на начальных курсах обучения достижение нескольких основных целей.
Во-первых, это просто дать учащимся твердые знания и умения, принципы профессионального отношения к делу. Чаянов отмечал, что эта основа основ культуры традиционно в нашей стране является вопиющим недостатком и здесь ученый щепетилен вплоть до самокритики: «…приблизительное знание и умение всегда было одним из наших национальных пороков. Сужу по себе и по работе своих ближайших товарищей, как ослабляла нашу работу эта приблизительность»[81]. Вот здесь-то тьюторы и ассистенты обязаны передать начинающим собственные профессиональные навыки, как-то: научить студентов читать и понимать читаемое «…путем организации совместного чтения, а затем совместного обсуждения индивидуально прочитанного и разбора конспектов», далее «должны быть организованы занятия для формирования профессиональной научной методики ‹…› от сгибания стеклянных трубок до составления таблиц»[82], при этом лишь многократное (здесь и далее выделено автором. – А.Н.) проделывание разных работ принесет стабильный положительный результат. Чаянов с иронией, но серьезно предупреждал российского учащегося о важности преодоления нашей национальной слабости «и так сойдет»:
Часто российские студенты, покопавшись немного в лаборатории или над бухгалтерскими книгами, считают свои звания оконченными, так как они, мол, поняли демонстрируемые методы.
Нет, уважаемые товарищи, здесь не понимать надо, а руку набить, приобрести навыки.
Если бы сапожный подмастерье, приколотив наискось каблук, отложил бы работу и сказал, что он понял, как каблуки приколачивают, то, несомненно, обучающий его мастер здорово треснул бы его по затылку.
А ведь профессиональное образование ученого не хуже профессионального образования сапожника; по крайней мере, не должно быть хуже. В нем также должно быть мастерство, нечто от искусства