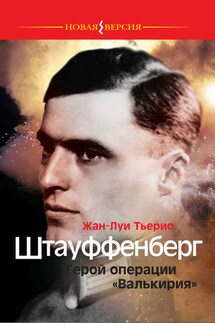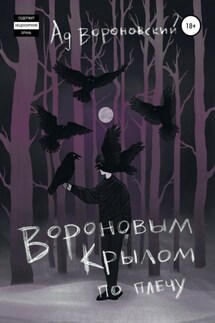Штауффенберг. Герой операции «Валькирия» - страница 20
Франция не отставала. В ноябре 1928 года ему был посвящен целый номер «Немецкого обозрения», в совет директоров которого входили такие знаменитости, как Жан Жироду, Леви-Брюль, Томас Манн и Жюль Ромэн. Тон оставался прежним. Андре Жид разразился восторженным письмом. Шарль Дю Бо написал хвалебную статью на двадцати страницах. Другой сотрудник накропал статью, заканчивавшуюся такими словами: «Наша вера в будущее рождена доверием, которое объединяет нас с тремя святыми: Гете, Хелдерлином и Георге, нашей верой в рождение классической немецкой культуры, в появление классической немецкой нации путем становления религии классического искусства.»
Кем же был этот могучий человек, способный вызвать такой порыв? Он родился в 1866 году и впервые прославился в качестве основного переводчика французской поэзии на немецкий язык. Он бывал в Париже, перевел Маларме, участвовал в поэтических четвергах. Его законом стал символизм, его девизом – искусство во имя искусства, его Граалем – магия слова. В своих сборниках поэм, «Гимны», «Странствия», «Альбагаль», он воздал должное своим французским учителям:
Начиная с 1903 года источник его вдохновения коренным образом изменился. Он был охвачен платонической страстью к некоему Максимину, трагически ушедшему из жизни в 1904 году. Этого молодого человека он возвел в ранг божества, святого хранителя, искупителя, короче говоря – полубога. С той поры его поэзия стала культом, жертвоприношением, литургией в память о Максимине и его ипостасях. Все опубликованные произведения пронизаны все той же кантиленой: «Седьмое кольцо», «Звезда союзов», «Новый рейх». По словам Хофманшталя, бывшего в течение некоторого времени его учеником, он возвел «чудесное королевство на основе слов, образов и знаков». Несколько тем прослеживалось в творчестве Георге до самой его смерти в 1933 году. Поэтический долг: «умру иль стану формой». Обожествление реальности и тела: «боготворите тело и поселите Бога в нем». Антиматериализм и культ молодости: «А новый Человек на новых пишет досках,/Пусть старцы нажитым кичатся». Презрение к толпе, к равенству и к демократии: «Единые для всех познанья есть обман». Поклонение прекрасному и жертвоприношению: «Один со всеми, но в пути, где злато ждет,/Порядок будущий толпой пренебрежет./Мы – роза, мистика, младая страсть,/Мы – Крест, страданьем насладимся всласть». Наконец, постоянно прослеживается тема абсолютного повиновения вождю, воспетого в поэме под названием «Ученик», проливающей свет на отношения покорности, которые связывали юных Штауффенбергов с их «учителем».