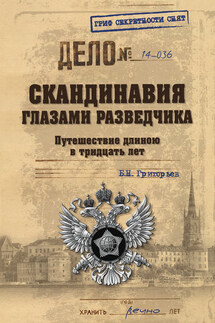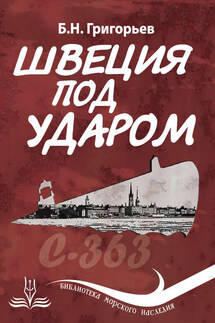Скандинавия глазами разведчика. Путешествие длиною в тридцать лет - страница 41
Принцессе Екатерине было 39 лет, Елизавете – 37, принцу Петру – 35, а младшему Алексею – 34 года. Из них только Екатерина родилась на свободе в Петербурге, её сестра была рождена в крепости Динамюнде под Ригой, а братья – в Холомогорах, в которых, не выходя за стены, они прожили с 1744 года. Любознательных читателей, желающих узнать подробности, отсылаю к книге Л. Левина «Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих» и к исследованиям норвежского журналиста-историка Бъёрна Братбака, здесь же хочу только упомянуть, что в Хорсенсе, на улице Сёндергаде, на деньги Екатерины II для «осколков» из брауншвейгского семейства было выстроено нечто вроде двора и тюрьмы одновременно. Ежегодно из Петербурга на счёт одного гамбургского банка на содержание хорсенского «двора», в который входили упомянутый выше Плойарт с супругой, несколько камеристок, выбранных специально королевой Юлианой, и 44 слуги, переводилось 32 тысячи рублей. Так это длилось до 1807 года, пока не умерла последняя из «холомогорок» – принцесса Екатерина (в 1782 году умерла Елизавета, в 1788-м – принц Алексей, а в 1798-м – принц Пётр).
Королева Юлиана в одном из писем к Екатерине II заверяла: «Я постараюсь озолотить им цепи, насколько это будет возможным». Принцам и принцессам и в Дании так и не удалось осуществить свою давнюю мечту – просто погулять за городом по траве. Датская тётушка им в этом категорически отказала. В том же письме брауншвейгская датчанка сообщает своей цербст-анхальтской «товарке», что племянники, мол, жаловались ей, что «в нынешнем счастливом положении» они менее свободны, чем в Холмогорах. «Вот как сильна привычка на этом свете – сожалеют иной раз даже и о Холмогорах», – сочувственно ответила венценосная немка из Петербурга венценосной немке в Копенгаген.
Нужно ещё добавить, что наследниками всего имущества хорсенского «двора» стали датские короли.
Очень печальная история.
А я до сих пор вижу себя стоящим посреди небольшой, почти игрушечной, пустой площади в плотной провинциальной тишине городка Богенсе. Ни одного движения, ни малейшего звука не зафиксировали мои зрение и слух. Казалось, мы попали не в город, а взяли билет в театр на спектакль, для которого на площади была выстроена декорация из картонных одноэтажных домиков под черепицей. Но спектакль отменили, актёры и зрители, предупреждённые заранее, в театр не явились, и только мы с ГэФэ, русские туристы, не узнали об этом. Вот-вот появятся рабочие сцены и заберут с собой, вместе с волшебными лучами вечернего заката, и «Мальчика Пис», и нас, и эти ненастоящие домики и с придуманным, наверное, Андерсеном городком.
Спустя много лет мы с ГэФэ вспоминали о посещении Богенсе: он – с изрядной долей юмора, а я – с грустью. Мне было жаль, что взятые нами билеты на спектакль пропали и что я так и не увидел сцен из датской провинциальной жизни начала XIX века.
Чего я ожидал там увидеть, я не знаю до сих пор.
Наверное, что-то очень хорошее. А может быть, и не очень – типа приведенной выше хорсенской истории.
Ещё ближе к делу
Хотел бы похвалить, но чем начать, не знаю.
Г. Р. Державин
Нетерпеливый читатель может задаться вопросом: чего это автор то углубляется в мелкие детали, с жаром описывая каких-то статистов на своих оперативных подмостках, каковыми несомненно являются Оскар и Володя-жестянщик, то предаётся меланхолии по поводу какого-то провинциального городишки, то делает экскурс в историю? Где же ночные схватки в подворотнях с соперниками из ЦРУ и СИС? Где, на худой конец, леденящие душу донесения агентов из штаб-квартиры НАТО? Где вообще разведка, шпионаж, погони, слежка, кинжалы, пистолеты и плащи?