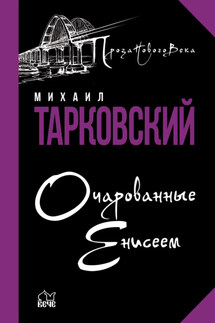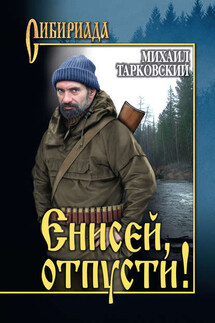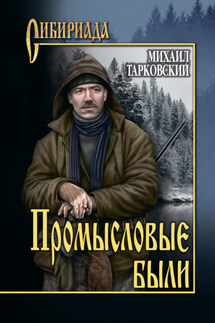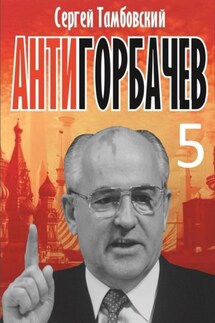Читать онлайн Михаил Тарковский - Сказ про Заказ
Сибириада
© Тарковский М.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Вместо предисловия
Дорогой читатель! Перед тобой новая книга, которая продолжает традиции «Очарованных Енисеем» – предыдущего издания серии «Сибириада». У «Сказа…» тот же устоявшийся уклад: основа – новая повесть «Сказ про Заказ», на контрасте с которой представлены самые первые литературные опыты автора – произведения конца двадцатого века. Такие как повести «Шыштындыр», «Лес» и «Лерочка»… Все три повести, которые можно назвать и большими рассказами, отражают состояние души автора, ещё только обращающегося в настоящего сибиряка – в них герои, укореняясь на Енисее, пока что крепко привязаны к средней полосе России. В повести «Лерочка» автор и вовсе располовинивает лирическое «я» на двух героев, живущих по разные стороны Камня-Урала.
Подтверждает связь с книгой «Очарованные Енисеем» ещё одно обстоятельство: герой повести «Живая верста» Павел Рыльников однажды предложил мне сюжет и, можно сказать, поручил написать рассказ: поручение я исполнил, и получился рассказ «Паша». В конце книги можно познакомиться с очерками разных лет. Среди героев этих очерков неизменно появляется Геннадий Викторович Соловьёв – мой друг, таёжник от Бога и прекрасный писатель.
Сказ про Заказ
Двум Андреям посвящается:
Андрею Антипину и Андрею Соловьёву
1. На печи (братовья)
– Да не люблю я рыб таких, – раздражённо говорил Андрей, выпутывая из сети налима, который всё продолжал c глупой и медленной силой выгибать ложкой хвост, плоское своё весло с намотанной ячеёй. – Ещё обязательно нудить надо, да всё как-то с подковыром… Хвост ещё этот…
Андрюха чувствовал себя невыспавшимся, как бывает, когда тебя сбили, не дали встать, как хотел – неспешно, со смыслом. Тем более проснулся он раньше обычного и всё слышал: как зашёл уезжавший в тайгу Кирилл, средний брат, и как собирался на деляну Петро, старший. И как Кирилл ворчнул невестке:
– И этого тормоши, писателя, хорош ему бока мять. Тормоши-тормоши его, – резанул требовательно и нарочно грохотнул пустым ведёрком.
Кирилл – поджарый, очень быстрый и будто вечно раздражённый – лицо усталое, худое с оспинками и незагорающее. Торчащий вперёд упрямый нос, за который его словно вело непрестанно, целило – в ветер, снежную даль… Кирилл был промысловиком из упёрто-обречённых, со своими спотычками и промашками, которые лишь усиливали его образ пылкого и отчаянного работника. Нос делал его похожим на молодого осетра. При всей колючести, рябости Кирюхи шея у него была налитая, загорелая и крепкая. На ней и сидело всё хозяйство, жена да двое ребятишек.
«А на кого же Петро тогда похож? Тугой, спокойный – весь как Кириллова шея. Очень породистый. Ну, на тайменя тогда», – думал Андрей, не очень довольный сравнением и понимая, что лиловая тайменья плоть «несильно в параллель идёт, когда о человеке речь…» Да… Удивительно бывает: статный, видный мужик и у него противная бабёнка. Как у его тёзки из «Калины красной».
Кирилл жил в одном подворье, но в соседнем доме, а Андрей под одной с Петром крышей. Андрей всё вроде бы строился, и Петро помогал с лесом: работал на трелёвочнике, возил с деляны хлысты… Петров тракторный образ казался Андрюхе лишним, засоряющим картину: настолько старший брат хорош был сам по себе и не требовал добавок.
У Петро свой строй речи был. Говорил старинно: Кирькин охотничий участок – называл исключительно «заводом», отчего вся промысловая Кириллова утварь вроде кулёмок и пастей казалась чем-то грозно одушевлённым. У телеги был не кузов, а кузово. След пятки на отпечатке медвежьего лаптя звал опятышем, а вместо «взыскания» говорил «взыск».
Если у Петра любовь к слову ограничилась словарём, то у Андрюхи шла дальше, выливаясь в, как ему казалось, нелепое для сельской жизни писание рассказов, для которого он даже слова не мог подходящего подобрать: «писательство» – противно, «сочинительство» получше, но с претензией на старомодность, книжность… «Ещё понимаю, – думал он, – заотшелиться с собой один на один в городе, где водяными, дровяными жилами не связан с округой, но тут-то, в тайге, где жизнь сама собой по горло наполнена… И не требует ни подпорок, ни взмыва над будничным – и так с сопки смотришь…»
И ничем на свете Андрей так не дорожил, как своей печкой, на которой и размышлял, и читал, и переживал, и пролёживал в обнимку со своей тетрадкой часами…
– Давай Емелюшку этого подымай, – пробасил Петро, – всю печь уже пролежал.
«Интересно, – подумал Андрей, – Кирилл сказал, что бока пролежал, а Петро – саму печь».
Петро показательно громко продолжал:
– Ты про заказ поинтересуйся у него. Будет заказ-то? А? А то одна кишкомотина, говорили-говорили, письма писали, а воз и поныне там. Хх-хе, – добавил с плаксивой издёвочкой, – так спать, дак дождёмся, когда оне всего тайменя прикончат! – явно подтверждая свою родственность с тайменем, завершил Петро.
2. Заказ
«Заказом» он именовал заказник, который пытались пробить мужики, болеющие за Большой Кандакан, могучую горную реку, когда-то очень рыбную, а теперь оккупированную проворотливыми туристическими дельцам. Среди них особенно отличалась некая Эльвира, дочь главы района, Земфиры Львовны, которую все звали Звирой.
Когда-то это были дикие, изобилующие рыбой места. Теперь же местный охотник, доехав до участка, обнаруживал здесь наскоро срубленные базы и снующие с самолётным рёвом аэроглиссеры и воздушно-подушечные катера. Петро возмущался: «Прёсся-прёсся – а там как… закрай магаполиса! Какой я теперь здесь хозяин?»
Выше Домашней (так называлась избушка, из который Кирилл выбирался домой) у Кирилла было любимое место, где он всегда ставил с женой и ребятишками палатку. Скальная гряда вдавалась в Кандакан, перегораживая реку, словно мол, а на его конце была ровнейшая площадка в седых полосках – весной её шлифовал лёд с вмороженной галечкой. Ранним утром раздался реактивный рёв катера, и на гряду высадилась орава очень плотных московских туристов со спиннингами… Чья-то нога цепанула растяжку от камня и гулко трясанула палатку. Как за кишки дёрнуло, словно не растяжка, а пуповина была натянута меж камнем и подсердием…
– Вы чё творите-то? Вы нас разбудили…
– А мы вас сюда не звали. У нас паспорта. Мы граждане России.
Организованно встали по местам и метали блёсны настолько мощно, уверенно и увесисто, что выглядело всё не как забава, а как серьёзная и неотвратимая работа. С присвистом сходила леска, и встающее солнышко высвечивало взвивающийся над ней туманчик. У кого-то хватающий таймень промазал по мыши, взворотил бурун, и один из рыбаков достал камеру и очень веско и басовито сказал на неё, что, мол, «внимание», «Коля, не …ди» и, что сейчас мы наблюдали выход. И снова было ощущение, что все присутствуют на каком-то очень серьёзном и государственно важном деле.
А как-то весной на самой Домашней Кирилл обнаружил целую бригаду – водители катеров, проводники, повариха. Кирюхины вещи лежали на улице, а на нарах дрых водитель «ветродуйки». Компания ждала, пока вода упадёт, чтобы пройти порог.
А однажды к самому посёлку подошла целая «Заря» с французами. Кирилл, понимая, к чему идёт дело, поднялся по трапу. Наглый тип с веснушками и в камуфляжной, будто тропической, шляпе сказал: «Кто это такой?! Проводите его»…
Андрей представлял себе городских туристов, как хлюпиков, туристиков, которые при одном виде его, местного, потупятся и свалят восвояси. На самом деле они были сытые, рослые, много бритоголовых и толстых и до звона прокалённых в войне за места нагула. Все, как один, в камуфляже и очень уверенные в своей правоте платящего.
Что ещё хуже – и местные закопёрщики, и их работники состояли из таких же сибиряков, как Андрюхины братовья, таких же крепких, вязких на дело, обветренных и сноровистых. И полных решимости биться за своих гостей. Ублажать их неутолимую страсть к метанию блёсен. В итоге за пятнадцать лет рыбу прикончили, тем более что успех держался на рыбной кухне: хариус, щука и ленок – потоком шли в пищу – и вправду, не тушенкой же гостей кормить! Показательно старались отпускать тайменя, ловить которого нельзя вообще: если диким случаем подцепится, где не ждали, его надо немедленно скинуть. А тут выходило лукаво: и ждали, и искали, и ловили-то как раз тайменя и звали на него.
Больше всего возмущало, что перед гостями, которые платили отличные деньги – 250 тысяч в неделю с человека, туровозы извивались, заботились, проводили им в домики свет и водопроводы, и те, кто побывал, – восхищались, как там всё «прекрасно организовано», и возмущались охотниками, которых туровозы выставляли грубыми, несправедливыми и хамовато-ушлыми рвачами, мол, сами тоннами заготавливают тайменя на продажу да дохнут от зависти, мечтая выгнать Эльвиру, чтобы самим туристов возить.
Властям же, занятым собой, дела не было до происходящего в верховьях. И расчёт был на всеобщее равнодушие, на удалённость и повязанность деревенских своими делами, вечным выживанием, которое всегда предпочтёшь войне («мы же здесь на заради свары живём!»). Никакого единства среди местных не было, кто-то и сам был не прочь рыбаков принимать, кто-то помогал туровозам ради приработка. Здоровенные парни, сходу хлещущие в рыло возле клуба, на дальний бой не шли, «знали место», ещё и морщились: мол, в Москве всё решено, у дельцов лапа там и прочее, хотя никакой лапы не было и быть не могло…
И выходило по одному «Митьке Пупкову». Ушлый и осторожный, он качал головой: «Да кто ж от таких денег откажется»… При этом, сидя на лавочке и глядя на проносящуюся кавалькаду ветродуев, грозно бросил:
– Ща с карабина так бы и загребенил… – И с досады сплюнул, на что Кирюха живо отозвался:
– Да я тебе дам карабин!
Кирилл был неистов. Его колотило от возмущения, что в считанные годы реку не только вычистили, но и превратили в турзону. «Ты понимаешь, я приезжаю туда – а там материк! Ещё ладно бы нефть нашли, понятно – не попрёшь. А тут трое коммерсов реку закрыли! Я теперь не житель, а обслуживающий персонал!» А Петро добавлял: «И главное – как неруси: нам дико через сограждан переступить, а имя́ нет! Вот чё прибыль с людьми делат!» И снова вступал Кирюха: «Они и меня заставляют так же относиться к людям! Для меня это противоестественно. Я не могу так жить!»
Вот Андрюха уже несколько лет и пробивал заказник, где запрещён туризм и рыбалка для приезжих. Шёл вслепую, не зная расставки сил, подозревая всех и вся, и только появление нового губернатора сдвинуло дело с мёртвой точки. Губернатор был книгочей, шпарил наизусть Пушкина, а книга Андрея стояла у него на полке меж Распутиным и Астафьевым.
Но губернатор был далеко, а для запуска заказника нужна была Звирина подпись. Звира же долбила министерство «сигналами», передёргивала, народ, мол, против, «наших мужичков и так обложили, дальше некуда. Я их в обиду не дам».
– Андрей, подымайся. Все на ногах давно! – резанула Настасья, невестка. – Мужики сказали, по воду что б ехал. Воды ни грамма нету дома. Стирка колом стоит. Сеть высмотри, не забудь… – И добавила вдруг бессильно: – Ой, чё-то охота сижка малосольного… – Она была беременная. – А! И Петро про заказ этот спрашивал.
Приятно было ощущать через ватное одеяло ровное печное тепло. Он специально не стелил матрас – любил спать на жёстком и чувствовать нагретый кирпич… «Как обычно – Петро недоделал – на Андрюху, Кирька недоделал – на Андрюху – вообще хорошо устроились, поди плохо, когда собственный брат на печи есть?!»