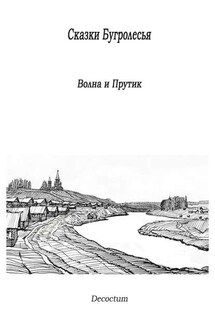Сказки Бугролесья. Волна и Прутик - страница 7
Кирилл Афанасьевич опять выпрямился и погладил через рубаху рёбра:
– Так, вот! Шла она за нами от Рой-реки – наутро Степан ходил, следы смотрел. Дождалась на дереве, пока мы угомонимся, уснём. Забралась на чердак и давай потихоньку потолок раскапывать, а затем и брёвна раскатила. Сверху хотела взять, значит. Да не тут-то было, Бог миловал! Правда, до сих пор в толк не возьму, как её Рыжий раньше не услышал… – Кирилл Афанасьевич пристально глянул на Фёдора, улыбнулся: – Ты, чего оробел совсем? Не боись. Зверь силой, коварством и хитростью берёт, – а человек разумом. И ни один зверь супротив разума человеческого не устоит!
А росомаха… отец твой верно говорит, – такая дюжая, как та – редкость большая даже для наших глухих мест. Обычно-то она как шкодливая куница, чуть покрупней только: то мясо с капканов стащит, то лабаз разорит. Пакостит изрядно, вот и приходится её убирать…
А в какой-то раз пришли отец с Кирилл Афанасьевичем под завязку нагруженные лосиным мясом. Потом два дня парили в чугунках и горшках большие сочные куски, жарили, тушили и солили впрок. «Сохатого били!» И представлялось Фёдору, как отец и Кирилл Афанасьевич с тяжёлыми еловыми дубинами наперевес гонятся на лыжах по зимней тайге за огромным длинноногим лосем и, догнав, раздают ему увесистые тумаки. И лось, устав от погони, скидывает часть своего мяса и налегке убегает в чащу…
А потом было Рождество и Святочная седмица. Пироги и прочая вкусная снедь. Высокая луна над Великим Мхом, звон колоколов, весёлый смех. Хождения по гостям и колядки шумные с клешемской ребятнёй. Волшебное и загадочное время…
4
Память накатывала упруго и прихотливо. Подчиняясь неведомой закономерности, всплывали разрозненные события, неожиданно отчётливо, как наяву, вспоминались случайные детали, звуки, запахи. Иногда, устав от такой чехарды, Фёдор брал память за загривок и хорошенько встряхивал. Путаница прекращалась, и какое-то время всё шло своим чередом. Но вскоре, в душной полудрёме глубокой ночи, нить ускользала, терялась, и память – петляя и прыгая – продолжала вить причудливую канитель…
…На белых широких плахах половых досок затейливо переливались блики. В большой русской печи уютно потрескивали длинные поленья, по ним вилось жёлтое пламя, и, вторя ему, на полу перед печью играли отсветы. Туда же через крайнее окошко горницы падал косой луч яркого осеннего солнышка. И он тоже двигался: молодая берёзка с последним не облетевшим листом полоскала голые ветки как раз за этим окошком.
Фёдор сидел на треногом табурете возле стола, смотрел на весёлую кутерьму света на половицах и «старался не ёрзать». За его спиной на столе был расстелен широкий отрез льняной ткани, а вокруг Фёдора с куском тонкого шнура-отмерка в руках ходила мама. Тётка Прасковья сидела сбоку и время от времени подавала советы:
– Ты, касатка, от ворота с запасом бери, на вырост, и на загиб оставь… Федя, подними руку. Вот. И по спине так же…
Мама тихонько улыбалась и послушно следовала советам.
Через пару дней отрез обещал превратиться в новую рубаху. Поэтому Фёдор старался изо всех сил, пытаясь не замечать, как в проёме бокового, запечного отруба горницы «ненароком» всплывала хитрющая личность Павлушки и корчила уморительные рожицы.
Первая осень в Клешеме стыла на самом излёте. Уже появились ледяные забереги на Жур-реке, уже не таял на пожухших травах колючий иней, уже приготовил к зиме, вымел начисто пронзительный ветер-сиверко и всё Бугролесье, и далёкую тревожную синь неба над ним.