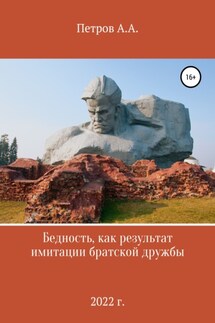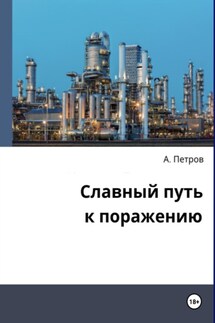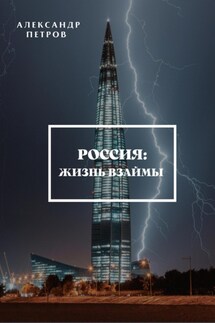Славный путь к поражению - страница 9
Число обучавших нас специалистов составляло ориентировочно пятнадцать человек, из них только один имел звание «доктора». Можно много и долго рассказывать о программе нашего обучения, более яркое представление о миссии в Великобритании даст чудом сохранившаяся при многочисленных моих переездах английская газета.
Нашу группу обслуживали три переводчика из Белоруссии, один – из советского торгпредства в Лондоне, четыре – из Англии. Мы работали на северо-востоке Англии, недалеко от границы с Шотландией. Выговор населения данного региона, несмотря на близость к Лондону, существенно отличался от разговора столичных жителей и тем более дикторов Би-Би-Си. Учеба наших переводчиков в вузах Львова и Минска шла по классическому диалекту, а переводить приходилось с диалекта Северо-Запада. Девушки-переводчики в первые дни командировки плакали и восклицали: «Но они же (англичане) совершенно не знают английского языка». Через некоторое время они освоились и впоследствии стали классными специалистами. Четыре переводчика – граждане Англии были выходцами из России, двое – эмигрантами конца 1930-х годов из Западной Белоруссии, двое попали в Западную Европу в период Второй мировой войны. Между ними просматривалась большая разница. Первые двое, очевидно, процветали, были любезны к нам, но при этом чувствовалось их высокомерие. Своих коллег-эмигрантов Второй мировой войны они как бы не замечали. Последние старались подчеркнуть свой патриотизм к России. Галина Павловна мечтала увидеть Москву с семью новыми высотными зданиями. Как она говорила, копиями кремлевских башен. Еще большие чувства высказывал господин Сосновский. Прошло двадцать три года после окончания войны, он с женой – русской военнопленной перебрался из Германии в Англию, вырастил двоих детей, а тоска по Родине не утихала. Никаких грехов и преступлений за ним не числится, а в Россию приехать, посмотреть на мать, братьев, родные места в Ростовской области опасается. Восторгается сообщениями из России, хвалит марки машин «Москвич», «Волга», ждет от СССР завоевания роли мирового лидера в автопроме. В свободное время он выходил на обрыв перед морем, садился на лавочку и часами смотрел в сторону края Северного моря, за которым начиналась Балтика, омывающая Россию. В Лондоне он подвозил нас к подъезду своей двухэтажной типично лондонской квартиры в бедном квартале. Показывал фотографии детей, знакомил со своей женой, очень скромной женщиной, уже разучившейся говорить по-русски. Это вызывало сочувствие: самое родное близкое – здесь в Англии, а душа – все еще в России. Руководство Техмашимпорта взялось за организацию его встречи с родственниками в России, впоследствии она состоялась.
Каждая страна пережила тяжелую войну. Прошло двадцать три года после ее окончания, а для многих – и англичан, и белорусских командировочных она была свежа в памяти. Англия – островное государство. Она не допустила врага на свою территорию, и ее экономика была настолько сбалансирована и самодостаточна, что и в годы войны в условиях интенсивных бомбардировок и блокады она обеспечивала страну всем необходимым. Хватало хлеба, мяса, овощей, в дефиците были колониальные товары. И для представителей старшего поколения, не участвующего по каким-либо причинам в боевых действиях, память о войне складывалась иногда по этим «лишениям». Один из специалистов с пафосом разъяснял на перерыве за кофе: «Мы сейчас наслаждаемся, пьем кофе, а представьте, в годы войны мы месяцами, до подхода очередного транспорта из Южной Америки были лишены этой простой радости». Ребята из Белоруссии из вежливости молчали. Паузу нарушила переводчица из торгпредства: «Мы тоже воевали, и у нас тоже, к сожалению, люди иногда месяцами не ели хлеба». Больше тему лишений во время войны англичане тактично старались не поднимать.