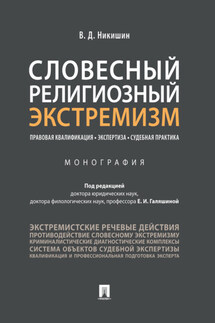Словесный религиозный экстремизм. Правовая квалификация. Экспертиза. Судебная практика - страница 3
Предубеждения – это предрассудок, предвзятость, негативный аттитюд (установка) к лицу или группе лиц.
Предубеждения могут вытекать в том числе в дегуманизацию, т. е. непризнание человеческого статуса за объектом дегуманизации – представителем (-ями) определенной социальной группы (что выражается в унижении достоинства человека или группы лиц).
В качестве вида социального конфликта мы рассматриваем речевой конфликт.
К сожалению, мы не можем согласиться с предложенным В. С. Третьяковой в русле юрислингвистики определением речевого конфликта как «состояния противоборства двух сторон (участников конфликта), в процессе которого каждая из сторон сознательно и активно действует в ущерб противоположной стороне, эксплицируя свои действия вербальными и прагматическими средствами»[20].
Речевые действия, включенные в состав речевых правонарушений, далеко не всегда предполагают активные действия обеих сторон конфликта, зачастую социальный конфликт эксплицируется в речевую деятельность одной из сторон конфликта, например, призывающей к экстремистской деятельности в отношении определенной социальной группы, или обосновывающей или обосновывающей такую деятельность. Потенциально возможна ответная реакция другой стороны социального конфликта, но для признания речевого конфликта состоявшимся, на наш взгляд, достаточно выражения конфликтогенного мнения и его обоснования хотя бы одной из сторон социального конфликта. Тем не менее в другой своей работе («Речевая конфликтология: проблемы, задачи, перспективы») В. С. Третьякова справедливо указывает, что «речевой конфликт имеет место тогда, когда одна из сторон в ущерб другой сознательно и активно совершает речевые действия, которые могут выражааться в форме упрека, замечания, возражения, обвинения, угрозы, оскорбления и т. п.»[21]. В этой же работе дается несколько иная дефиниция речевого конфликта: «неадекватное взаимодействие в коммуникации субъекта речи и адресата, связанное с реализацией языковых знаков в речи и восприятием их, в результате чего речевое общение строится не на основе принципа сотрудничества, а на основе противоборства»[22].
В аспекте судебного речеведения и криминалистики речевой конфликт (речевая конфликтная ситуация) понимается нами как экспликация социального конфликта в речевую деятельность как минимум одной из сторон данного конфликта, заключающуюся в выражении конфликтогенного мнения и его обоснования в форме дискредитирующего (негативного) мнения.
Один из основателей конфликтологии как научной дисциплины – Г. Зиммель рассматривал конфликт «не просто как столкновение интересов, но и как выражение враждебности, неизбежно присущей людям и их отношениям»[23].
В этой связи следует говорить о том, что речевой конфликт может быть сопряжен или не сопряжен с проявлением агрессии.
Л. Р. Комалова в своей диссертации «Типология мультилингвальной вербализации эмоционального состояния «агрессия» (на материале разносистемных данных корпусной лингвистики) утверждает, что «современное общество рассматривает агрессию как один из видов деструктивности, имеющий в своей основе мотив разрушения, причинения ущерба себе и/или другому существу»[24].
З. Фрейд рассматривал феномены агрессивности и деструктивности в разрезе теорий инстинкта смерти и Эроса и в своих изысканий пришел к тому, что «агрессивность, деструктивность, садизм, стремление к контролю и господству, несмотря на качественные различия, стали проявлениями одной и той же силы – инстинкта смерти»