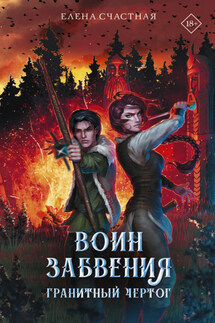Служили Прометею. Премия им. Ф. М. Достоевского - страница 15
В книге «Дом, где собираются сердца» автор впервые опубликовал уникальные материалы С. И. Каштанова об этом событии, о жизни семьи композитора после его кончины, о последних днях жизни Т. Ф. Шлецер-Скрябиной, об отъезде осиротевших детей с бабушкой в Бельгию, о создании и открытии музея А. Н. Скрябина. К сожалению, за сорок с лишним лет пребывания в музее (до 1984 года) бывшее руководство не ввело их в научный оборот, не использовало эти документы в лекционной, издательской деятельности, которой, как впоследствии выяснилось, не было. Пролежавшие в фондах музея мертвым грузом, бесценные артефакты были востребованы при другом руководстве и подлинно научных кадрах в 1990-х годах.
В этот дом А. Н. Скрябин вошел триумфатором в музыке. Уже были признаны в России и за рубежом (Франция, Германия, США, Великобритания, Бельгия, Италия) его симфонические произведения «Концерт для фортепиано с оркестром», Третья симфония («Божественная поэма»), «Поэма экстаза», «Прометей. Поэма огня». Он уже известен как мастер крупных фортепианных форм – шести сонат. И как блистательный, неповторимый исполнитель собственных произведений.
Многие пианисты пытались интерпретировать фортепианное творчество А. Н. Скрябина, среди них прежде всего ученики композитора – М. Неменова-Лунц, Е. Бекман-Щербина, которым он сам давал советы, друзья Вс. Буюкли, А. Гольденвейзер, М. Мейчик, С. Рахманинов и другие. Но взыскательная публика отмечала, что лучше А. Н. Скрябина его произведения не исполняет никто. Он – лучший.
Выдающиеся дирижеры обращались к Скрябину с просьбой именно им дать право на первое исполнение того или иного его симфонического произведения. Среди дирижеров назовем прежде всего С. Кусевицкого, дирижировавшего всеми симфоническими произведениями Скрябина. «С. Кусевицкий блестяще сыграл „Экстаз“ Скрябина в Петербурге 31 октября 1912 года» – сообщила Российская музыкальная газета (№46, стб. 980). А газета «Речь» опубликовала рецензию В. Каратыгина на этот концерт: «Как дивно г. Кусевицкий исполняет вдохновенный „Экстаз“ Скрябина. Какую колоссальную энергию он развивает в гениальном скрябинском нарастании» (1912, №200).
Это и его учитель по консерватории и друг В. Сафонов, Э. Купер, А. Зилоти, и немецкие дирижеры О. Фрид и Эрнст фон Шух, англичанин Г. Вуд, американец М. Альтшулер и многие-многие другие. Известен факт исполнения симфонического произведения Скрябина С. Рахманиновым в качестве дирижера со Скрябиным в партии фортепиано. Все говорит о недосягаемой высоте, на которой безраздельно царствовал гений Скрябина в те годы. Современники назвали его Прометеем нового времени.
Без преувеличения можно сказать: Скрябин находился в атмосфере обожествления. Единственный из композиторов, единственный из Серебряного века русской культуры. Даже некоторые служители церкви чувствовали в нем божественую сущность. «Божественным знамением» назвал А. Н. Скрябина композитор А. Крейн. «Моим божеством» называла композитора его ученица Е. А. Неменова-Лунц.
«И шли толпы. И был певучим гром,
И человеку Бог был двойником.
Так Скрябина я видел за роялью».
Это уже Константин Бальмонт.
А юный Борис Пастернак! Для него А. Н. Скрябин был богом, кумиром, который (какое счастье!) – бывал у них дома, играл свои произведения. И вот строки поэта:
«Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
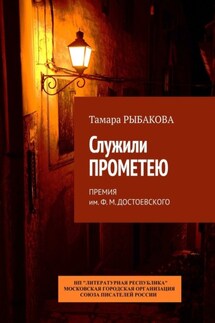

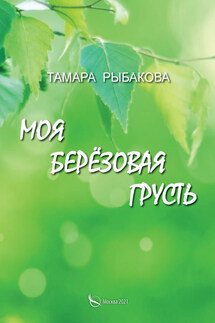

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)