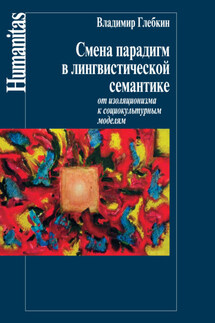Смена парадигм в лингвистической семантике. От изоляционизма к социокультурным моделям - страница 20
В целом, похожим образом обстоит дело и с работами по традициональным культурам, на которые ссылается Вежбицкая. Основной ее аргумент здесь звучит следующим образом: набор семантических примитивов одинаков для всех языков, как бы далеко они друг от друга ни отстояли, как бы ни различались говорящие на этих языках культуры по мировоззрению и типам деятельности. Как известно, существует значительное число антропологов, которые не признают такого единства, утверждая, что в языках традициональных культур отсутствуют понятия, выражающие причинно-следственную связь, базовые ментальные понятия и т. д. Вежбицкая и Годдард опровергают подобные утверждения, указывая, что их авторы не учитывают полисемии и аллолексии, с учетом которых изоморфизм между базовыми наборами становится гораздо более явным (Wierzbicka 1996, p. 185–210; Goddard 2002, p. 20–30). Однако корректного описания когнитивных процедур, стоящих за восприятием того или иного слова, ни Вежбицкая, ни Годдард не проводят, так как для этого требуется не лингвистический, а психолингвистический анализ. Более того, даже в работах психологов, которые отчетливо фиксируют особенности мышления представителей традициональных культур, Вежбицкая не обнаруживает этих особенностей и, используя описанный Поппером метод, интерпретирует приводимые данные в свою пользу.
Приведу лишь один пример. Вежбицкая ссылается на английский текст знаменитой работы А. Лурии, опирающейся на его исследования 30-х годов, но опубликованной в СССР лишь в 1974 г. (Лурия 1974; Luria 1976). В этой работе, и, в частности, в тех ее фрагментах, которые она упоминает, Лурия отчетливо показывает, что мышление и мировосприятие человека традициональной культуры связаны с контекстом его повседневной деятельности и абстрагироваться от этого контекста, решать задачи, не опирающиеся на его повседневный опыт, он не может. Не возражая против наблюдений Лурии, Вежбицкая отмечает, что его информанты используют, тем не менее, слова all, if, т. е. эти понятия присутствуют в их языке, что позволяет выделить их как семантические примитивы (Wierzbicka 1996, p. 209–210). Однако когнитивные процедуры, стоящие за all, if в текстах Лурии, так же, как и в детских высказываниях, воспроизводящих упомянутое выше because, существенно отличаются от подобных процедур в понимании Канта и Лейбница. Здесь основой суждения является личный опыт, а не абстрактная безличная необходимость, и за внешним семантическим сходством в указанных ситуациях стоят различные типы мышления, которые можно условно назвать симпрактическим и теоретическим[72]. Если рассматривать язык как формальную систему, оторванную от человека, такое отличие невозможно увидеть, но как только исследователь включает человека в процесс формирования и развития языка, оно сразу становится заметным.