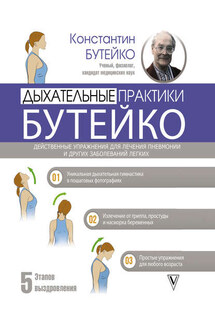Смерть – лишь сон. Врач хосписа о поиске надежды и смысла жизни на пороге смерти - страница 2
Другая пациентка, 28-летняя Сьерра, не в силах вынести мысль о том, что ее 4-летний сын останется без матери, по понятным причинам отрицала серьезность своего состояния. Из онкологической больницы ее отправили в хоспис, поскольку «там ей будет удобнее» – метафорический оборот, который она интерпретировала со всем оптимизмом юности. «Я справлюсь с этой болезнью», – шептала она нашим растерянным сотрудникам всего за несколько дней до смерти. Однако ее умерший дедушка, который явился ей во сне и сказал, что не хочет ее огромных страданий, наконец, позволил ей признать ситуацию и дал ей и ее скорбящей семье силы отпустить. Она больше не боялась небытия и мирно скончалась на руках у своей матери.
А потом была 13-летняя Джессика, которая на-учила меня, как смириться с немыслимым – с уходом ребенка. Когда я спросил, какие из ее снов наиболее значимы для нее, она ответила: «Что меня любят. Что у меня все будет хорошо». Бывают случаи, когда пройти через невыносимое можно лишь с невинностью ребенка.
Современное медицинское образование до того напичкано предрассудками, что неспособно считать смерть чем-то иным, кроме как неудачей и провалом. Эти же предрассудки обесценивают успокаивающую силу предсмертных переживаний пациентов. Проще говоря, врачи часто считают, что происходящее в конце жизни больного не имеет отношения к их профессии. Студентов-медиков и врачей учат отбрасывать от себя все, что нельзя измерить, разглядеть на рентгеновском снимке, подвергнуть биопсии или удалить.
Верно и то, что быть врачом комфортнее, если ты имеешь дело с вопросами, рожденными мозгом, а не душой, поэтому слова и переживания умирающих принято игнорировать, считать бессвязными высказываниями людей с когнитивными нарушениями или, возможно, страдающих от побочных эффектов лекарств. Сегодняшняя медицинская модель отражает ограниченный взгляд на всю совокупность переживаний в процессе умирания.
При переходе от лечения болезни к уходу за умирающим медицинскому персоналу следовало бы руководить процессом, а не отрицать эти мощные предсмертные переживания, а уж тем более не подавлять их с помощью медикаментов. В пациентах и членах их семей следует поддерживать стремление открыто говорить о снах и видениях с врачами и другими медицинскими работниками. Это будет способствовать психическому благополучию больного, а врачам поможет лучше заботиться о подопечных. Медикаментозное управление симптомами должно быть также направлено на достижение психологического и душевного благополучия умирающих, а также на сохранение достоинства пациента в конце жизни.
Как достичь такого баланса? Я считаю, что на этот вопрос не может и не должен отвечать никто, кроме пациента. Мало какие исследователи напрямую спрашивали людей, оказавшихся на пороге смерти, что конкретно они переживают, что значат для них их сны и видения, как они влияют на их физическое и психическое состояние. Опять же, это во многом связано с тем, что будущим врачам внушают, что их основная цель – бросить вызов смерти. Я сам был там и прошел этот процесс с медсестрой Нэнси и нашим пациентом Томом, и я знаю, для того, чтобы убедить моих коллег изменить свои взгляды, нужно перевести опыт последних дней жизни на понятный им язык, то есть язык научно обоснованных исследований. Для сбора подобных доказательств мы провели структурированные интервью. Мы предоставили количественно измеримые данные. Множество данных. Но тогда я не знал того, что знаю сейчас, а именно, что одних данных и статистики недостаточно, чтобы совершить своего рода революцию в нашем подходе к лечению умирающих. Революцию, которая пойдет на благо пациентам и их родным.