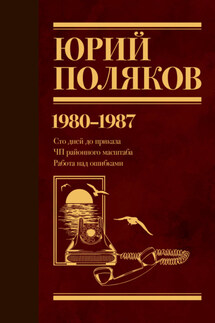Смерть Вазир-Мухтара - страница 41
В тридцатых годах закочевали по Европе виртуозы, полководцы роялей, с безвредными, но шумными битвами. Их слишком черные фраки и слишком белые воротники были мундирами, надетыми на голое тело. Все эти гении были без белья и без родины. Полями сражения были фортепьяно Эрара, Плейеля или Бабкока.
У Грибоедова была родина. Как он любил ростовские и суздальские лица, как ненавидел петербургские, выглаженные и мятые, как воротники! Все же свою жизнь он проводил не в деревне, а на больших дорогах и в персидских, ветром обитых дворцах.
Ветер гнал его. И пообносилось в пути белое, тонкое, дворянское белье, тканное крепостными матушки, теми самыми, что подняли однажды бунт.
Он не соглашался ни на журнал, ни на спокойную жизнь.
11
Вот и теперь, когда он вернулся к себе в нумера, там торчало бог знает сколько людей. Они ждали его давно и поэтому расположились удобно, болтали, курили, как будто он уже умер и стесняться его не приходилось.
Он жал руки всем и с каждым говорил просто.
Молодому генералу, который приходился дальним родственником Паскевичу и называл его mon cousin[141], он тоже отвечал: mon cousin; с молоденьким дипломатом был отечески вежлив и предупреждал его, чтобы он, если вздумает ездить на Восток, не доверялся славе о жарком климате, а брал непременно шубу, иначе продрогнет; начинающему поэту обещал непременно прочесть его стихи, а к трем неизвестным людям, которые просто открывали на него рты, относился свободно, как к хорошей мебели.
Он покорился им, потому что скоро уезжал, и даже в душе не посылал их к чёрту.
Все-таки обрадовался, когда Сашка доложил, не глядя на гостей, что в кабинете лежат письма. С час как принесли.
Он сделал жест, который означал не то: «сами видите – дела», не то: «делайте что хотите», – и пошел в среднюю комнату. Действительно, были письма – четыре, пять или больше.
Длинная розовая записка, с лиловым сургучом, от Кати.
«Милый друг! Я залилась горькими слезами сразу после вчерашнего спектакля. Знаете, что такое обращение с женщиной ужасно! Я не хочу совсем Вас более видеть! И если б Вы захотели ко мне заехать, все равно Вам не удастся, потому что я занята с 11 до 2 каждый день беспрестанно, а с семи уже в театре. Итак, прощайте! Навсегда! Вы ужасный, ужасный человек!!
Е. Т.»
Грибоедов расхохотался. Какая таинственность! Какой ужас! Младшие классы театральной школы!
Он посмотрел на розовую записку с разломанным сургучом и положил на стол. С двух до семи каждый день беспрестанно было вполне достаточно времени.
Потом ему показалось, что он и в самом деле боится встретиться с Катей. Женщины слишком долго оставались молодыми, время их не касалось; ему было заранее скучно. Он решил, что будет держать себя с Катей чрезвычайно почтительно и подурачит ее. Эта мысль ему очень понравилась.
Длинное письмо от Леночки было написано понемецки. Она тоже с ним прощалась и тоже плакала. Грибоедову было жалко Леночку. Он сунул письмо в карман. Леночка расплачивалась за других, она кого-то напоминала Грибоедову, чуть ли не мадонну Мурильо[142] из Эрмитажа.
И взглянул на третью печать.
Третья печать была персидская, письмо было в неуклюжем конверте, и надпись, с затейливыми росчерками, была: