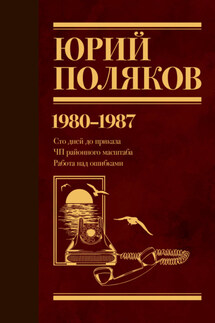Смерть Вазир-Мухтара - страница 51
Следовало молиться кавказской девочке с тяжелыми глазами, которая сидела на Кавказе и тоже, верно, думала теперь о нем.
Она не думала о нем – она понимала его, она была еще девочка.
Не было Леночки Булгариной, приснилась Катя Телешова – в огромном театре, который должен был рукоплескать ему, автору, и рукоплескал Ацису.
Измен не было, он не предавал Ермолова, не обходил Паскевича. Он был прям, добр, прямой ребенок.
Он просил прощения за промахи, за свою косую жизнь, за то, что он ловчится, и черное платье сидит на нем ловко, и он подчиняется платью.
Еще за холод к ней, странную боязнь.
Прощения за то, что он отклонился от первоначального детства.
И за свои преступления.
Он не может прийти к ней как первый встречный, пусть она даст ему угол.
Все, что он нынче делает, все забудется. Пусть она утешит его, скажет, что это правда.
Останется земля, с которой он помирится. Опять начнется детство, пускай оно называется старостью.
Будет его страна, вторая родина, труды.
Смолоду бито много, граблено.
Под старость нужно душу спасать.
19
Он сидел у Кати, и Катя вздыхала. Так она откровенно вздыхала всей грудью, что не понять ее – значило быть попросту глупцом.
Грибоедов сидел вежливый и ничего не понимал.
– Знаете, Катерина Александровна, у вас очень развилась за последнее время элевация[159].
Катя бросила вздыхать. Она все-таки была актерка и улыбнулась Грибоедову как критику.
– Вы находите?
– Да, вы решительно теперь приближаетесь к Истоминой. Еще совсем немножко – и, пожалуй, вы будете не хуже ее. В пируэтах.
Все это медленно, голосом знатока.
– Вы находите?
Очень протяжно, уныло и уже без улыбки.
И Катя вздохнула.
– Вы теперь ее не узнали бы. Истомина бедная… Она постарела… – И Катя взяла рукой на пол-аршина от бедер: – Растолстела.
– Да, да, – вежливо согласился Грибоедов, – но элевация у нее прямо непостижима. Пушкин прав: «Летит, как пух от уст Эола…»[160]
– Сейчас-то, конечно, уж она не летит, но, правда, была страсть мила, я не отрицаю, конечно.
Катя говорила с достоинством. Грибоедов кивнул.
– Но что в ней нехорошо – так это старые замашки от этого дупеля, Дидло[161]. Прямо так и чувствуется, что вот стоит за кулисами Дидло и хлопает: раз-два-три.
Но ведь и Катя училась у Дидло.
– Ах, нет, ах, нет! – сказала она. – Вот уж, Александр Сергеевич, никогда не соглашусь. Я знаю, что теперь многие его бранят, и правда, если ученица бесталанна, так ужасть как это отзывается, но всегда скажу: хорошая школа.
Молчание.
– Нынче у нас Новицкая очень выдвигается. – Катя шла на мир и шепнула: – Государь…
– А отчего бы вам, Катерина Александровна, не испробовать себя в комедии? – спросил Грибоедов.
Катя раскрыла рот.
– А зачем мне комедия далась? – спросила она, удивленная.
– Ну, знаете, однако же, – сказал уклончиво Грибоедов, – ведь надоест все плясать. В комедии роли разнообразнее.
– Что ж я, старуха, что плясать больше не могу?
Две слезы.
Она их просто вытерла платочком. Потом подумала и посмотрела на Грибоедова. Он был серьезен и внимателен.
– Я подумаю, – сказала Катя, – может быть, в самом деле, вы правы. Нужно и в комедии попробовать.
Она спрятала платочек.
– Ужасть, ужасть, вы стали нелюбезны. Ах, не узнаю я вас, Александр, Саша.
– Я очень стал стар, Катерина Александровна.
Поцелуй в руку, самый отдаленный.
– Но хотите пройтиться, теперь народное гулянье, может быть забавно?
– Я занята, – сказала Катя, – но, пожалуй, пожалуй, я пройдусь. Немного запоздаю.