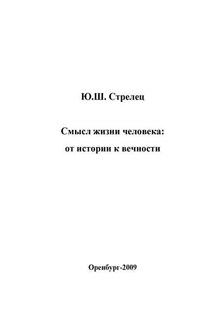Смысл жизни человека: от истории к вечности - страница 12
Мы видим, что такая этика утверждает гуманизм конкретных человеческих взаимоотношений, и такая конкретность противостоит абстрактным , но базируется на абсолютных, безусловных принципах, к числу которых относится запрет на доносительство, как таковое. Моральные основания и принципы не должны смешиваться с юридическоправовыми – относительными и условными, по самой своей природе. Иначе, мера данной относительности будет превышена, и станут нравственно возможными и неправовые, и просто бесчеловечные формы взаимоотношений людей.
Главное для Конфуция – сохранение в обществе мира и покоя; в этом ключе и следует понимать его обращенность к ритуалу («ли») и прошлому, как таковому. Жажда перемен не должна посягать на удостоверенные временем порядки. В последних необходимо увидеть их позитивный смысл. «Одна из норма конфуцианского ритуала разрешает детям менять порядки, заведенные отцом, только через три года после его смерти… Конфуций учит тому, что новое надо выводить из старого, что идеалы надо черпать в состоявшемся прошлом, а не в проблематичном будущем… При оценке этой патриархальной, опрокинутой в прошлое нравственной установки следует учесть, что народ, который руководствовался ею, оказался самым многочисленным на земле».63
Таким образом, представления о должном образе жизни индивида базируются на его социальных основаниях; смысложизненные ориентации человека вписываются в более широкий общественный контекст и оцениваются в аспекте блага или вреда, которые могут быть привнесены в целое общественных отношений действиями индивида.
Благородный муж («цзюнь-цзы»), при всей своей нравственной самостоятельности, не должен преследовать только свои эгоистические цели, но, в отличие от низкого человека («сяо жень»), он думает об общем благе государства и его граждан.
Никто не предопределен изначально и окончательно к благородству или низости: правильный путь жизни поддерживается собственными и постоянными усилиями человека соответствовать своему, истинно человеческому назначению.
«Искусство жить» в рассуждениях античных философов
О заслугах философии античности (VI век до рождества Христова – V век после рождества Христова) в деле становления и первой, в европейской традиции, разработки ее проблематики написано много. И действительно, едва ли не все основные направления и парадигмы философствования уходят корнями в размышления древних греков и римлян. Ими исследовались Хаос и Космос, боги и природа, человек и социальные отношения. «Влечение к мудрости» естественно переросло в «любовь к мудрости» (этимология слова «философия»), и, несмотря на скромное обозначение этого благородного рода интеллектуальных занятий, кристаллизовалось во множество учений, принципов, девизов и крылатых слов, убеждающих нас в том, что и сама мудрость присутствует в них в разнообразном освещении и практическом приложении.
Проблема человека всегда занимала в античной культуре достойное, если не главное, место. Происхождение и сущность человека, его отличия от животного мира, предназначение и смысл жизни мыслились как конечная цель философии и в том случае, когда речь шла о сверхиндивидуальных, космологических, например, измерениях мира.
Так, один из прославленных мудрецов64 древней Греции Фалес не только первый стал заниматься астрономией, предсказывая дни затмений и солнцестояний, но и первый объявил душу бессмертной. О предпочтениях ее земного плана Диоген Лаэртский пишет: «Гермипп в «Жизнеописаниях» приписывает Фалесу то, что иные говорят о Сократе: будто бы он утверждал, что за три вещи благодарен судьбе: во-первых, что он человек, а не животное; во-вторых, что он мужчина, а не женщина; в-третьих, что он эллин, а не варвар».