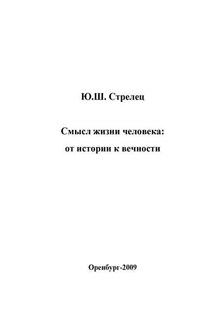Смысл жизни человека: от истории к вечности - страница 21
«Вообще говоря, креационистское содержание деятельности верховного и тем более единственного Бога – фантастическое выражение успехов человека в созидании цивилизации, а вместе с тем, и углубления его моральной духовности».156 (Для верующего это, разумеется, не «фантастическое», а самое, что ни на есть, подлинное выражение и обоснование человеческих успехов).
Духовность выразилась 1) в подъеме человека над межэтническими и межклассовыми социальными перегородками: «…Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос», – говорит Библия (Колосс., 2,11); 2) в отказе от правила так называемого талиона («око за око, зуб за зуб») и в утверждении этики любви и всевоплощения – «люби ближнего как самого себя» (Рим. XIII,9). «В свете этого принципа, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте вы с ними, ибо в этом есть закон и пророки» (Мтф. 6,3. Аналогично Лк.6,31).157
Так понимаемые предназначение человека, смысл его жизни предполагают углубление человека в сокровенные таинства собственной души и нахождение истинного ее спасения, преодоления зла. «Будь совершенен, как Отец твой небесный». Уже в неоплатонизме, выступающем в виде связующего учения между античностью и Средними веками, объявляется возможным (хотя и для немногих избранных) путь души к Единому, ее «поворот» (epistrophe) к Абсолюту – Богу. Наряду со спокойным – этическим путем воспитание добродетелей, описывается познавательное исступление (экстаз), в процессе которого дух вырывается из плотских объятий и прорывается к праединству изначальной домировой субстанции. В состоянии так называемого «обожения» человеку открывается глубина смысла его жизни, неизвестного душе, находящейся в духовной спячке (Плотин 204-270 гг.).
Знаменитая «триада» неоплатоника Прокла изображает процесс слияния мыслящего индивида с первоединством: первая ступень – любовь к прекрасному («эрос» Платона), подготавливающая экстатическое состояние; вторая ступень – погружение в истину и мудрость, конгениальную божественному знанию (конгениальность – не равенство, но интеллектуальная соразмерность); третья ступень – вера как результат экстаза, приводящая к молчанию и поглощенностью Абсолютом.
Подавляющее большинство людей приходят к этому после смерти.
Первенство веры перед знанием утверждал такой авторитет раннесредневековой мысли как Августин Блаженный (главное произведение – «О граде Божием»). «Я знаю, говорил он, – как полезно верить многому и такому, чего не знаю». Вера расширяется до «верознания», в котором важную роль играют наши внутренние переживания, которые убедительны и достоверны. «Доказывая неколебимую достоверность самосознания человека (и выступая здесь отдаленным предшественником Декарта) Августин утверждал непосредственность субъект-объектного отношения между душой человека и Богом. Познание вещей природы и любых ее сфер, давно потерявших свою интеллектуальную ценность, с одной стороны, и углубление личностного самосознания, обращенное к религии, с другой, привело теоретика монотеизма к убеждению, что погружение в собственную душу и обретение там Бога – главный смысл и цель человеческой жизни. «Я желаю знать Бога и душу. И ничего более? Решительно ничего (Монологи, I 2).158
Религиозная герменевтика, ставящая своей целью понимающее прочтение притч, образов, идей Св. Писания, требовала подъема по лестнице их смыслов: от первого шага – «телесного», или, «исторического», доступного и простакам, ко второму – «душевному», или моральному, а затем к третьему – «духовному», собственно философскому, доступному немногим мудрецам. Осмысление жизни как целого обретает здесь процессуальный характер, изображается в интеллектуальной динамике. Однако, весь процесс не замыкается в интеллектуальных рамках, ибо вера выше: «Смотрите, братия, – замечает апостол Павел, – чтобы кто не увлек вас философиею» (Кол.2,8)» … мудрость мира сего есть безумие перед Богом (1 Кор. 3,19). Здесь уместно вспомнить знаменитое высказывание Тертуллиана «верую, ибо абсурдно). (Сколько насмешек вызывали у атеистов всех времен эти слова: «чем, дескать, глупее, тем больше следует верить!» Однако, в этих «абсурдных» словах таится и другой смысл: когда рассудок приходит в тупик, сталкиваясь с непознаваемым, на помощь приходит вера, идущая дальше рассудка. Здесь позволительна аналогия с космическим кораблем, типа «Шаттл» или наш «Буран». Его «самолетные» крылья бесполезны в вакууме, и полет за пределами земной атмосферы возможен лишь с помощью реактивной тяги).