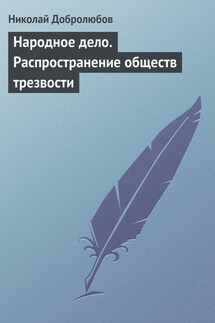«Собеседник любителей российского слова» - страница 11
. Впрочем, об отношениях этих народов друг к другу автор сам имел, кажется, не совсем ясное понятие. Ниже он говорит, что скифы было у греков общее название для многих народов, на великом пространстве Азии, Африки и Европы живших[18], и что под ними весьма часто разумели и славян. Поэтому он очень подробно и благосклонно описывает нравы и образованность скифов. Коренным народом северной России считает автор руссов, к которым пришли потом славяне с Дуная. Варяги же были народ, единоплеменный славянам, живший по берегам Балтийского моря и издавна находившийся в сношениях с руссами, так что Гостомысл, умирая, просто указал своим согражданам на Рюрика с братьями как на людей, хорошо им известных и достойных быть их правителями{23}. Вот как понимает автор «Записок» запутанный вопрос о происхождении руссов и призвании варягов. В описании свойств и нравов славян замечательно, что автор обращает внимание на язык их и говорит, что распространением и умножением славянского языка доказывается распространение славянского народа. «До времен Рюрика почти вся Россия уже славянским языком говорила. Многие народы в свете завоеваниями теряли свой язык, по славянский язык перенимали побежденные славянами народы»[19]. Здесь же замечено, что славяне задолго до рождества Христова «письмо имели» и что у них были даже древние письменные истории, что доказывается сказаниями Нестора[20]{24}. Об Аскольде и Дире рассказано здесь, что Рюрик послал их к Киеву для обороны жителей от козар[21] и что Олег пошел в Киев, чтобы поверить жалобы на Аскольда, которые «найдя знатно основательными», поступил с ним как с ослушным подданным, лишив его княжения. Ни о хитрости, ни об убийстве нет ни слова[22]. Олегу приписывается начало Москвы[23]. Различены два договора Олега 907 и 911 годов (в «Записках» – 906 и 910, потому что автор, считая год с сентября, весьма часто расходится с Нестеровым летосчислением с марта), которые до позднейшего времени принимали за один (50). Святослав характеризован в «Записках» совершенно словами летописи[24]. Предание о мести Ольги древлянам рассказано весьма умеренно, с выпуском большей части летописных подробностей (51). О самом сватовстве князя Мала (в «Записках» – Малдива) замечено, что «сие мало имеет вероятности», потому что великая княгиня Ольга была уже тогда шестидесяти лет; но, с другой стороны, князя Малдива «мог прельстить таковой союз по участию великой княгини Ольги в правлении Россиею»[25]. Это замечание весьма сходно с тем, которое отмечает г. Соловьев у Щербатова, предложившего подобное соображение о мнимом сватовстве к Ольге Константина Порфирородного[26]. В «Записках», впрочем, замечено и о сватовстве Константина, что, по старости Ольги, оно невероятно, «вовсе же опровергается тем, что Константин тогда имел супругу, которая принимала и угощала Ольгу»[27]. В заключении правления Ольги находим любопытную заметку: «Блаженная Ольга, будучи сама от рода князей славянских, паки народ славянский возвысила. При ней всюду имена славянские в начальниках и правителях оказываются. Ольга и язык славянский во употребление общее привела. Известно, что народы и языки народов мудростию и тщанием вышних правителей умножаются и распространяются. Каков государь благоразумен о чести своего народа и языка прилежен, потому и язык того народа процветет. Многие народные языки исчезали от противного сему»
Похожие книги
Созданный по инициативе Некрасова, «Свисток» был поистине детищем Добролюбова. Большинство материалов, помещенных здесь при жизни критика, принадлежало ему, в том числе почти все наиболее социально значительные и острые выступления. «Свисток» обнаружил новые грани яркого писательского дарования Добролюбова, который предстал здесь выдающимся мастером революционной сатиры, с блеском владевшим различными сатирическими жанрами – стихотворной пародии
«Непостижимая странность» открывает «итальянский» цикл статей Добролюбова, возникших в связи с пребыванием его в этой стране с декабря 1860 по июнь 1861 г. Выехав за границу на лечение в мае 1860 г., Добролюбов провел там, переезжая из страны в страну, более года. То обстоятельство, что половину этого срока он прожил в Италии, несомненно объясняется притягательной силой происходивших там событий. 1859–1860 гг. стали решающим этапом в борьбе италь
Распространение обществ трезвости, бойкот крестьянами, городскими низами откупной системы и более активные формы борьбы Добролюбов справедливо расценил как широкое социальное народное движение. По свидетельству историка, Добролюбов «собрал большой материал о трезвенном движении, изучив все, что было тогда опубликовано по этому вопросу в газетах и журналах. Мастерски обходя цензуру, Добролюбов разоблачил махинации откупщиков и нарисовал яркую карт
«…Кольцов до последнего времени не пользовался у нас такой известностью, какой можно бы желать для него и какой он заслуживает. Правда, некоторые из его песен распространяются в публике и возбуждают сочувствие благодаря тому, что они положены на музыку и могут быть петы в обществе, с аккомпанементом фортепьяно. Но это случайное знакомство с двумя-тремя песнями весьма немногих приводит к более близкому и серьезному изучению произведений поэта. До
Почему Холмс больше не использует дедуктивный метод, Петр I изображен на медведе, а Екатерина II сбежала в ящике?Так сегодня показана история в сериалах и фильмах. И это породило проблему подмены фактов фантазией сценаристов. Где грань, отделяющая четкое следование истории и здравому смыслу от вольного трактования в угоду конъюнктурным соображениям?
С помощью этой книги вы сможете разобраться в соционике лучше, чем 95% людей, которые ею интересуются.Книга содержит разбор 100 стереотипов, которые невероятно вредны для понимания соционики.Назначение книги: удовольствие, кристальная ясность и лёгкость на пути постижения научной истины.
Данный труд есть искренняя попытка обнаружить в Новом Завете Божественную Истину или хотя бы намёки на неё. В результате разумного тщательного анализа обнаружилась выраженная бессвязность евангельских повествований, их противоречивость научным, археологическим, историческим и другим объективным данным, а также наблюдательному опыту. Даны ответы на главные вопросы как верующих, так и атеистов.Предлагаемая версия толкований устраняет все известные
Проза мастера «уральской мистической магии» Елены Соловьевой, критика на Владимира Коваленко в рубрике «Мясник из Макондо» под авторством Виктора Дробека, «Критика кино» от Тихона Корнева, постоянная рубрика «БиХ» от Льва Колбачева, артбук художника Тим Фей и подборка его работ. Книга содержит нецензурную брань.
Действие происходит в наши дни. Несколько человек отобраны неким научно-исследовательским институтом для уникального эксперимента, который проводится под открытым небом в суровой Арктике.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВАМПИРСКОЙ ТРИЛОГИИ «КОРОЛИ ЛАБИРИНТОВ» ОТ НЕПОДРАЖАЕМОЙ РИИ МИЛЛЕР!Камилла Сойлер, главная героиня романа «В лабиринтах лжи», уже давно завоевала сердца читателей онлайн-платформ. Ее загадочность, хрупкость и в то же время храбрость откроют сердце для тайных лабиринтов нашей души, заново влюбят нас в вампиров и проведут по темной эстетике порока.12 000 прочтений на Wattpad! Второе место по запросу «вампиры».Для любителей цикла «Жела