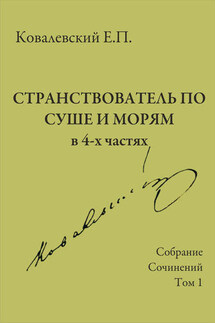Собрание сочинений. Том 5. Черногория и славянские земли. Четыре месяца в Черногории. - страница 18
– На Руси есть Царь Великий, Екатерина Алексеевна, – сказал другой пришелец, языком для нас понятным и гордо подымаясь с места, – и правит Она Русью, потому что Петр III волею Божьей помер. А тот, что у вас, не царь, а лжец и самозванец.
Я видел, как старик мой нахмурил брови, и думал, вот подымится буря, но отец вспомнил долг гостеприимства – и буря миновала. – «Кто бы вы ни были, – сказал он, – зачем бы сюда не пришли, я дам вам проводника и пристанище. Никто не скажет, чтобы христианин выдал своих единоверцев туркам или венецианам, а в случае нужды сумею защитить вас и от своих, – сказал он, сурово поглядывая на русского князя. – Радован, ступай с ними и не приходи без них». Мы отправились. «Славная пора, – думал я, – идти на чету», и подглядывал на турецкое село, что было невдалеке от нас и где все спало смертным сном. – До рассвета достигли мы вон той бухты; там человек с пятнадцать, притаясь и на стороже, ждали нас. Князь что-то сказал одному молодцу, который потом, был неотлучно при нем, и мы отправились назад, в горы.
Окончание экспедиции князя Долгорукого известно: он достиг одной цели своего посольства, возбудил Черногорию к общей войне с Турцией и тем отвлек лучшую часть ее войска, босняков и албанцев, от участия в войне с русскими, которая уже возгоралась в то время, но не мог выполнить другого поручения Императрицы, исторгнуть из Черногории лже-Петра. Черногорцы остались верными своей присяге.
Радован сообщил мне несколько анекдотов о Стефане Малом; вот один из них, резко очерчивающий характер черногорцев. Стефан был строг до крайности, но справедлив; черногорцы терпели его и чтили в нем Русского Царя, которому дали у себя приют и власть. – Раз он вздумал испытать честность своего народа самым странным образом: на распутье, между Цетином и Катаром, наиболее посещаемом черногорцами, положил он несколько червонцев – и золото осталось нетронутым несколько месяцев, пока он не взял его обратно.
Везде, между славянами греко-российского исповедания, находил я самое радушно гостеприимство и самое искреннее участие в моей судьбе, проявлявшееся даже в мелочах. – В Кастель-Ластве я хотел осмотреть развалины древнего здания, которое венчало дикий утес, возвышавшийся над морскою пучиной, недалеко от берега; не без труда убедил я своего хозяина сопутствовать мне: он боялся за меня, а не за себя; кое-как причалили мы к утесу, вокруг которого кипели волны, и лодка служила нам первой ступенью к цели, казавшейся вблизи еще неприступнее; утес был высок и обрывист, но мы кое-как вскарабкались на него и мое любопытство было вполне вознаграждено: древнее здание римлян, охраняемое своей неприступностью, сохранилось от влияния рук людских, и казалось самое время, которое, в этом случае, почти всегда работает за одно с человеком, пощадило его: не бойтесь, я не стану вам описывать древностей; знаю, что подобных описаний никто не читает; надо видеть эти здания, и по ним изучать историю их времен и обитателей. Спуститься с утеса было еще труднее, чем взойти на него, и я должен был прибегнуть в этом случае к средству весьма невинному, употребляемому детьми, не знающими назначения ног; желая привести в действие свои руки, как важное вспомогательное орудие, я опустился на земь… и таким образом хотел продолжать путь. – «Что вы делаете! – закричал с ужасом мой спутник, – вас видят с берега, и Бог знает, что подумают». – «А что подумают?» – «Скажут, что вы – простите, если так выражусь – что вы струсили». – Нечего делать, надобно было встать. Не без усиленного биения сердца начал я нисходить к лодке, и рад был всякому встречному терновнику, за который мог вцепиться.