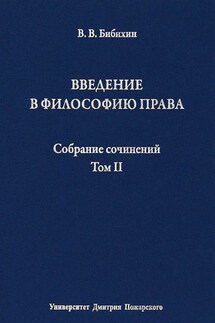Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права - страница 44
Быть может, независимое правосудие и сильная аристократия привнесли бы покой в умы русских людей, величие в их души, счастье в их страну; не думаю, однако, чтобы император помышлял о подобном способе улучшить положение своих народов: каким бы возвышенным ни был человек, он не откажется по доброй воле от возможности самолично устроить благо ближнего (там же)[84].
«Зависимое правосудие» никакое не правосудие. Не внедренное порядком и дисциплиной право, которое строго говоря всегда останется неправом, а свое, собственное, выросшее из отечественной почвы – вот что можно было бы назвать «независимым правосудием».
Из этого важного, удавшегося места, всей концовки Письма тринадцатого, обратим внимание еще на одно, действительно историческое выражение, вырвавшееся у Кюстина. Он склонен не видеть большой или вообще никакой разницы по сути вещей – т. е. по человеческому достоинству, добротности, доброте, красоте, по калокагатии, можно было бы сказать, и это было бы верно мысли Кюстина, – между своим Западом и русским Востоком. Перебирает разные аспекты, параметры – снова не видит разности. Находит ее в одном.
[…] По какому праву стали бы мы попрекать российского императора его властолюбием? разве тирания революции в Париже уступает чем-то тирании деспотизма в Санкт-Петербурге?
И всё же наш долг перед самими собой – сделать здесь одну оговорку и установить различие в общественном устройстве обеих стран. Во Франции революционная тирания есть болезнь переходного времени; в России деспотическая тирания есть перманентная революция (révolution permanente) (I, 222).
Неустойчивость, подвижность строя. Здесь можно вспомнить из Чаадаева, что Россия не имеет истории. Перманентная революция ее исключает. Революция на Западе пройдет, уверен Кюстин, и Франция снова примет форму, но у России никогда еще не было шанса принять форму. Русскую естественную политическую форму еще никто не видел. У нее и нет возможности появиться, потому что революционный анархопорядок здесь не просто стабильный – он, похоже, вечный.
К перманентной революции как законе русской истории мы обращаемся в попытке понять его природу или существо. Эта природа связана с уверенностью в отсутствии должного (райского) порядка как определяющем настроении страны. Можно определить его как теснящую близость нездешнего рая. Его убедительная, нечеловечески достоверная недостижимость срывает все наши попытки устроения. Она же и упрочивает наше устроение по неписаным законам. Нас теснит присутствие того, от чего мы всегда бесконечно далеки. В уверенности, что мы опоздали к сотворению мира, наша основная опора. Мы твердо знаем, что то, чем мы всегда обделены, нас не подведет.
Кюстин угадывает эту неуловимость райского благополучия, одной из тех вещей, которых специальным, особенным образом нет именно только в России (Седакова), когда замечает:
В России, по-моему, люди обделены подлинным счастьем больше, чем в любой другой части света. Мы у себя дома несчастны, однако чувствуем, что наше счастье зависит от нас самих; у русских же оно невозможно вовсе […] Россия – плотно закупоренный котел с кипящей водой, причем стоит он на огне, который разгорается всё жарче […] (I, 247).
Настроение невозможности праведного устройства и оттого небрежное отношение к любому устройству действует как постоянное подталкивание к срыву. Отсюда статус перманентной революции в стране.