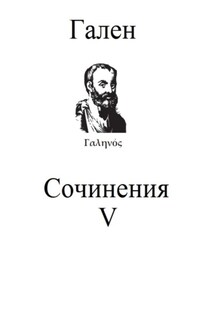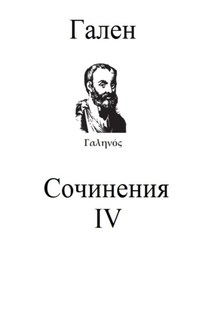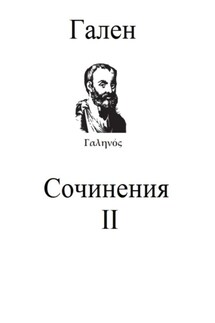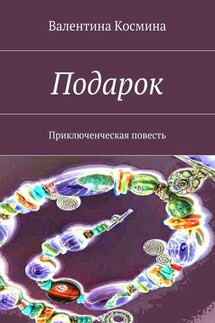Сочинения. Том 4 - страница 41
Историческая судьба учения Галена необъяснима без учета в высшей степени позитивного восприятия его взглядов представителями ранней христианской церкви. Тот факт, что система взглядов Галена становится господствующей уже к концу III века и сохраняет это значение более полутора тысяч лет, объясняется не только врачебными моментами, но и (а возможно, и прежде всего) комплиментарностью его воззрений к натурфилософским взглядам Отцов раннехристианской Церкви[52]. Так, например, некоторые аргументы, использованные Галеном в тексте «Об учениях Гиппократа и Платона», обнаруживаются в идеях раннехристианского богословия (например, опровержение тезиса о том, что если никто никогда не видел Бога, то можно считать, что его не существует):
9.8.22. Итак, как мы составляем мнения о том, что создано людьми, таким же образом следует делать выводы и в отношении божественных творений и изумляться Творцу нашего тела, кем бы из богов Он ни был.
9.8.23. Если из-за того, что мы не видим Его, мы скажем, что Его нет, то мы не сохраним аналогии с мнением в отношении искусств: ведь мы составляем мнение о произведении искусства не из-за того, что видели построившего корабль или кровать, не беря в расчет пользу всякой из частей, но именно в таком подходе полагаем основу нашего суждения.
Разумеется, убеждения Галена имеют несколько условный характер по отношению к христианству, так как здесь он следует за Платоном:
9.9.1. Платон же объявляет причиной нашего возникновения сотворившего мир Бога, который повелел детям своим устроить род людей, взяв от него самого сущность бессмертной души и добавив в нее смертное. <…>
9.9.3. То, что устройство нашего тела есть дело высшей мудрости и силы, доказывается посредством того, что я изложил немного раньше; то, что о сущности души и создавших нас богов и еще более – обо всем теле нашем говорит божественный Платон, может быть лишь убедительным и правдоподобным, что и сам он заявляет в «Тимее», в самом начале изложения своего учения о природе, повторив затем это в середине повествования.
Последний тезис крайне важен: доказательство Гален находит именно в функционально целесообразном устройстве человеческого тела. Перед нами – один из основных аргументов, используемых на протяжении почти двух тысячелетий христианскими авторами для доказательства существования Бога, – телеологическое доказательство.
Значительный интерес представляет собой и критика Галеном некоторых взглядов Платона, касающихся устройства человеческого тела, содержащаяся в последних четырех книгах трактата «Об учениях Гиппократа и Платона». В историографии принято относить Галена к числу платоников. Однако известный голландский ученый Т. Тилеман отмечает, что в «Об учениях Гиппократа и Платона» Гален проецирует в прошлое традицию философии, совмещая ее с медициной, и указывает Гиппократа и Платона в качестве их основателей. Иными словами, Гален использует своеобразный экзегетический прием с целью показать, что они были не только правы, но и придерживались одного мнения по наиболее важным вопросам. По мнению Т. Тилемана, «Гален не принадлежал к платонической школе или какой-либо любой другой философской школе, предпочитая занимать независимую позицию, благодаря этому он мог учитывать точки зрения разных направлений философии»[53]. Вместе с тем на примере исследования полного текста трактата «Об учениях Гиппократа и Платона» мы убедились, что Гален – платоник, более того, он активно полемизирует с последователями Академии, жившими в его время, упрекая их в неверном толковании идей ее основателя – Платона. На примере медицины он показывает и доказывает адекватность исследовательской методологии Платона по отношению к задачам медицинской науки, умело применяя ее к анализу анатомо-физиологических фактов. Добавлю к этому, что Гален использует философию только как инструмент: все, что пригодно для развития медицины, принимается, непригодное – отвергается. Невозможно согласиться с мнением М. Фреде, который указывал, что Гален стремился преодолеть разделение между медицинскими школами, в частности между рационалистами и эмпириками