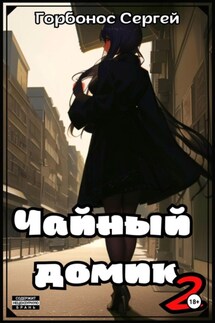Сохраняя традиции фортепианной игры - страница 4
Кажется, я немного отвлёкся. Я хотел рассказать вам об эксперименте с пушкой, стреляющей электронами. Как я это понимаю, нечто, похожее на рентген. Мишень – фотопластина. Между пушкой и мишенью помещают преграду с двумя вертикальными прорезями. Казалось бы, каждый догадается, какой будет рисунок на фото. Две прямые вертикальные линии. Вы ведь это сейчас представили? Но нет! На фото отображается диковинный узор из множества вертикальных линий, разной силой засвеченности. Фокус? Чудо? Нет, фокус впереди! Как только учёные решили понаблюдать при помощи специальных камер за движением электронов, случилось то, чего никто не мог предвидеть. Электроны нарисовали тот самый ожидаемый узор с двумя вертикальными линиями! Ну не хотят они баловаться, когда за ними наблюдают. Этот эффект назвали «эффектом наблюдателя». Наличие наблюдателя предопределяет исход эксперимента.
Вывод напрашивается один. Мы сами делаем реальность такой, какой её представляем! И вот вам – творчество!
Вернёмся к музыке. Композитор имел один образ, исполнитель другой, а каждый слушать третий! Я-то в детстве думал, что нужно так донести до слушателя образ, чтобы он поймал его, уловил! А это оказалось не нужно и, даже, невозможно. Главное, что я понял тогда: для того, чтобы у слушателя сложился образ и эмоциональный отклик на этот образ, у исполнителя обязан присутствовать свой образ и своё отношение к нему!
А знаете, почему так ценится в творчестве эмоциональный отклик? Мы уже говорили в первой главе (точнее в докладе), что наш мозг запоминает только те моменты жизни, на которые был эмоциональный отклик. Когда что-то произошло, получилось или не получилось, пришла идея и т. д. Только моменты эмоционального отклика. Наш мозг запоминает эмоции лучше всего остального. Эмоции наркотик для мозга. Знаете, как быстрее выучить наизусть стихотворение или прозу? Учите эмоционально! Проживайте каждое слово.
Вот потому, что эмоции больше всего любит наш мозг, мы и ходим на концерты, в театры, в музеи и кинотеатры. Чаще всего жизнь не преподносит нам столько эмоций, сколько сконцентрировано в одном произведении искусства. Вот почему человечество до сих пор занимается творчеством, казалось бы, самым невыгодным и не необходимым занятием для обеспечения жизнедеятельности человека.
А теперь представьте какое количество эмоций получает не зритель или слушатель, а сам исполнитель! Когда учёные посмотрели, что делается в мозгу музыканта во время исполнения музыки, они мягко сказать удивились. Во-первых оба полушария мозга начинают активно взаимодействовать друг с другом. Во-вторых, выбрасывается такое количество гормона счастья, что уму не постижимо!
Для меня, как для педагога до сих пор остаётся загадкой, как это всё объяснить ребёнку. Ведь чтобы эти процессы заработали, язык музыки должен стать для человека родным. В своей работе я заметил одну интересную особенность. Дело в том, что я преподаю фортепиано не только пианистам, но и хореографам. И вот, оказалось, что хореографы гораздо быстрее начинают понимать язык музыки. Они гораздо раньше становятся эмоционально открытыми ему. Разгадка этого феномена оказалась очень простой. Всё дело в том, что маленькие пианисты в большинстве своём никогда не слышали Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского. Ну не принято в наше время у родителей, чтобы ребёнок с младенчества купался в классике. А хореографы приходят учиться гораздо раньше, в три-четыре года. И пока они учат свои «па» что они слышат? То, что играет концертмейстер – Бетховена, Шопена, Чайковского, Штрауса. То есть полный набор взрослого эмоционального музыкального языка!


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)