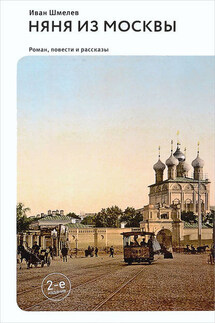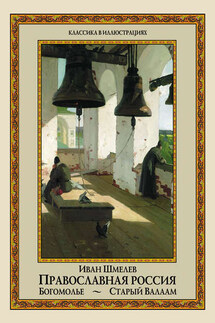Солнце мертвых (сборник) - страница 27
– Баба-Яга?! Да. Я сам только подумал.
– Вот видите. Значит, сказка. А раз уже наступила сказка, жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы – последние атомы прозаической, трезвой мысли. Все – в прошлом, и мы уже лишние. А это, – показал он на горы, – это только так кажется.
Такие бывают человечьи разговоры.
Он уходит к соседке. У него под мышкой мешочек. Над ним белый широкий зонт, весь в заплатках. Идет – колышется. Навстречу ему – голосок Ляли:
– Михайла Василич в гости!
И Ляля, и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек. Пшеничка или, может быть, кукуруза? И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби: последняя горсть гороха.
А я долго еще сижу на краю Виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опахале хвоста, на чудесном своем экране, павлин танцует у дачки, у дохлой Лярвы. У ее головы недвижной, распластавшись на брюхе, тянется-вьется Белка, вывертывая морду, будто целует Лярву. Доносится до меня урчанье и влажный хруст… Она выгрызает у Лярвы язык и губы! Так скоро? Ведь только сейчас ходила по пустырю кляча… Вот так миленькое «трио»! Жаднюха на меня смотрит. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки… Что смотришь? Вот начну тебя с лапки… что?! Теперь все можно. Она уснула, так скоро, доверчиво уснула…
Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю, сижу. Поторкивает-трещит, шумят шумы, шумит дремучее… Погасает солнце. Шумит водопадами в голове… Сорвешься туда, к камням… А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все – сказка. Баба-Яга в горах…
Волчье логово
В Глубокую балку пойти – за топливом?..
Там стены – глубокой чашей, небо там – сине-сине. Кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожит-млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, – во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски – солнце: будут светить зимою. Дремлет на солнцепеке каменная змея – желтобрюх, заслышит шаги – поведет сонным глазом – и завернется: знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я – порожденье того же солнца. Такой же нищий. Всегда – один. А вот и она, ящерка-каменка, – вышурхнет, глянет и – обомлеет. От страха? От удивленья на Божий мир? Застынет стрелкой и пучит бусинки глаз – икринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой, немолчной гремью – жаркое сердце балки. Вот – оборвут, и глохнешь от тишины, кружится голова с умолчья.
Сил не хватит дойти до балки: день уже отнял силы.
Пень, иззубренный топором… Я знаю его историю.
Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде и черный дрозд на верхушке старого миндаля тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелеными ставеньками-ушами; павлин, пробирающийся под кедром – к ночи, синий дымок над кухней – первого ужина… уже ночные, синею мглою охваченные горы, намекающие душе: «Отныне… вместе?»
Теперь будут они следить за тихою жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие – солнечные и ночные – будут глядеть на нас до светлого конца жизни…
В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья! Это – старый миндаль… обгрызли его кору, но глядит еще бодро и весь осыпан. А это… персик? Его донимают ветры… – ну, ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти, долго-долго… Увидишь старого человека, меня-другого… он сядет здесь, – поставить скамейку надо, – и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, на неменяющуюся звезду над Бабуганом…