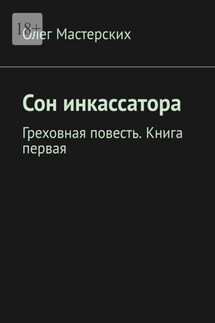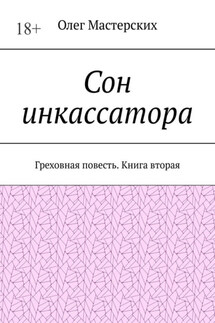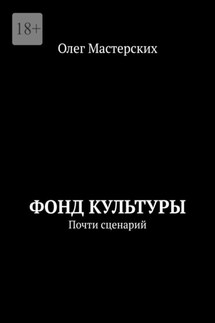Сон инкассатора. Греховная повесть. Книга первая - страница 6
– Что в остатке? – Думал губернатор. – Бесконечные орды насекомых уничтожающие сочные побеги. Городское хозяйство, состоящее из долгов перед федералами. Бездумно запущенное сельское хозяйство. Остановившиеся заводы «оборонки». Жалкие остатки того, что называется малым предпринимательством и недостроенное метро и масштабные, неисполнимые планы строительства водохранилища, нового аэропорта, разваливающаяся спортивная арена?
Всё – это, уже не имело ни какого потенциала…
– Пора… – подумал вслух Лежнев.
И в этот миг в дверь глухо постучал
***
Конец второй главы.
Отступление второе
Труды Аристотеля, ставшие довольно популярными в среде исследователей теории возникновения понятия – этика, открывают любопытный спор, связанный с возникшим в процессе становления « HOMO MORALIS» выбором: что принять человеку моральному, созидающему, деятельному как центр благоустройства, развития, силоприложения – общественное или личностное?
Этические рамки, закладываемые различными общественными группами, порою весьма противоречивы и проявляются в сложившихся в той или иной общности людей характером отношения, если хотите – противопоставлением индивидуальности к коллективизму.
Если один общественно-политический строй отождествляет стремления личности к реализации своих законных амбиций с вектором успешного развития всего общества, за счёт повышения качественных показателей каждого из своих членов. В то же самое время существует и противоположная общественная структура считающая, что любое проявление индивидуальности идёт в разрез с коллективной моралью, а стремление к самореализации воспринимается как эгоизм и карьеризм.
Безусловно, причины различного восприятия, казалось бы, абсолютных истин, лежат в национальном характере народов и в особенностях этических координат.
Разделяющий фактор, наметивший границы государств, основан на принятом тем или иным народом морально-этическом кодексе, определяющем в обществе такие понятия как добро и зло, отношение гордыни и смиренному послушанию.
Послушание (смирение) порой и определяет национальную самобытность народа. Его своеобразие, готовность к терпению перед властями, покорность, самоопределение, фатализм и национальная гордость – всё это и есть связующая сила, объединяющая таких различных, созданных в единственном экземпляре людей в один народ, единую общность, нацию.
Человечность, порицаемая этическими стандартами современного общества, идёт в разрез с доминирующей социальной парадигмой, в которой путём нехитрых манипуляций, подменяется понятие – национальная гордость. Национализм, презрение ближнего, предпочтение себя всем, гордыня, дебелость ума и сердца, хула, неверие, колкое насмешничество, замена смирения на молчания, потеря простоты и любви к ближнему, ложная философия порождающая невежество – Смерть души.
Глава третья
Распил
– Нам нужны миллионы собственников, а не горстка миллионеров.
Говорил, обращаясь к гражданам новой страны, первый президент России, объясняя цель приватизации.
После распада огромной страны, новое государство – Российская федерация, взвалив на себя все обязательства СССР, практически обанкротилось.
Прежняя модель планово-распределительной экономики распалась, как ветхое судёнышко, подхваченное внезапным, всё разрушающим ураганом. Прежние производственные связи рвались на границах новых государств. Когда то объединяющий производственный процесс – Советский рубль пал под натиском национальных валют, быстро обретших стихийную независимость, когда то «братских» республик.