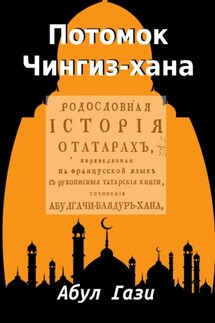Сорок дней Муса-Дага - страница 113
На высоком крыльце дома. собрались знатные люди Муса-дага. Ступени, ведущие к крыльцу, служили ораторской трибуной. Писарь Йогонолукской общины поставил у нижней ступеньки столик, чтобы записывать важнейшие решения.
Габриэл Багратян хотел как можно дольше оставаться в своей комнате, окна которой выходили на площадь с толпой, чтобы не растрачивать душевную полноту этой минуты на случайные разговоры. Он вышел из дому, только когда Тер-Айказун за ним послал.
Помертвелые, поникшие лица – не трехтысячная толпа, нет, – одно всеобщее, единое лицо. Лицо изгнания, утратившее надежду, – оно такое же здесь, как в сотнях других мест в этот час. Вся эта людская масса стояла, хоть в этом не было надобности, так мучительно вжавшись друг в друга, что казалась малочисленней, чем была на самом деле. И лишь далеко позади, там, где старые деревья загораживали проезд, люди сидели, лежали, стояли прислонившись к стволам, отделившись от толпы, точно речь шла не об их жизни.
Когда Габриэл увидел этот народ, его родной народ, его внезапно охватил ужас. Сердце тревожно забилось. Действительность вновь явилась перед ним иной, она резко отличалась от того представления, что он составил себе о ней. Это были. не те люди, которых он ежедневно видел в деревнях, на которых опирался в своих смелых расчетах. Из широко раскрытых глаз на него смотрела смертельная суровость и горечь. Кругом бурые, точно ссохшиеся лица. Даже щеки молодых казались ему запавшими, морщинистыми. А ведь он сиживал и в крестьянских горницах, и у ремесленников, но тогда он так же мало видел реальность, как путешественник, проезжающий местность в экипаже. И лишь здесь, в этот грозный, знаменательный час, произошло первое соприкосновение этого отчужденного с истоками его жизни. Все, что он в своем кабинете продумал и разработал, вдруг лишилось опоры, – таким незнакомым, таким отпугивающим был облик тех, кого он хотел повести за собой. Женщины еще в воскресных платьях, повязанные шелковыми косынками, в монистах, в позвякивающих подвесками браслетах. Многие были одеты как турчанки – в широкие шаровары и носили на лбу жемчуга, хотя были набожными христианками. Соседство стирало различия и во внешнем облике людей, особенно в таких окраинных деревнях, как Вакеф и Кебусие. Габриэл видел мужчин в темных энтари, бородатых, в фесках или меховых шапках. Стояла жара, некоторые из них были в распахнутых рубашках. Кожа на груди, в отличие от загорелой и жилистой крестьянской шеи, была до странности белой. Седовласые нищие слепцы, похожие на пророков, возникали в толпе то тут, то там – словно души, взывающие,к расплате на Страшном суде. Впереди всех стоял Геворк, плясун с подсолнечником в руке. Лицо слабоумного выражало не всегдашнюю готовность к услугам, а упрек земной юдоли, обращенный к иному миру.
Габриэл коснулся своей куртки холодной как лед рукой. Но, прикоснувшись, ощутил ожог, как от крапивы. И в тот же миг всплыл вопрос: «Почему именно я? Как я буду с ними говорить? Как я посмел взять это на себя?» Ответственность надвинулась на него точно солнечное затмение с мелькающими во мраке тенями летучих мышей. Подлая мысль: «Бежать отсюда! Сегодня же! Все равно куда!»
Но вот Тер-Айказун начал медленно вколачивать в сознание массы свои слова. Слова и фразы приобретали смысл. Солнечное затмение на небе Габриэла кончилось.
Тер-Айказун неподвижно стоял на верхней ступени крыльца. Шевелились только губы да легко вздымался наперсный крест, когда он говорил. Остроконечный клобук бросал тень на восковое лицо, впалые щеки обрамляла черная борода с двумя клиньями проседи. Полузакрытые глаза точно таинственные тени на лице. Казалось, он был в этот час не будущим свидетелем чего-то непредставимого, а уже пережил и изведал все, так что теперь может наконец и отдохнуть. Несмотря на то что армянский язык, как все восточные языки, тяготеет к высокому слогу и пышное образности, он говорил короткими, пожалуй, даже сухими фразами.