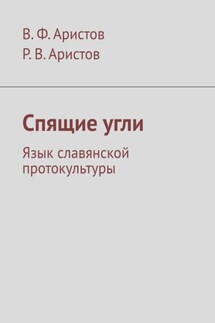Спящие угли. Язык славянской протокультуры - страница 2
Доктор философских наук, профессор В. Н. Назаров.
[1] Демин В. Н., Назаров В. Н., Аристов В. Ф. Загадки Русского Междуречья. – М.: Вече, 2003. С. 236.
[2] Подробнее см.: Из протокола допроса Г. И. Бокия от 17—18 мая 1937. Приложение 4. В кн.: Андреев А. И. Время Шамбалы. Оккультизм, наука и политика в Советской России. СПб. -М.: Нева – Олма-Пресс, 2002.
[3] См.: Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М., 1996. С. 142.
[4] Потебня А. А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С 275.
Этимология фольклора
Фольклор – это голос народа, его язык. Слова в фольклоре облекаются смыслами и смыслы порождают слова. Как происходят эти слова? Именно такой вопрос заставляет искать первоначало человеческого существа. Исследуя предмет поиска можно опуститься к самым корням человеческого существа. Раскрытие происхождения слова и сам результат этого раскрытия процесс длительный и напоминает склеивание фрагментов горшка археологам. Фрагментарность, множественность осколков не позволяет явить миру целостного научного знания на данный момент. Картина из осколков древнего знания постоянно разрастается. Поэтому данная работа с точки зрения набора раскрытых слов напоминает калейдоскоп. Вращая его, любой желающий может найти новые смыслы, в привычных старых словах.
Главным проводником является самый древнейший нематериальный исторический источник – язык. Носителем языка, слова, и содержания понятий слова, к нашему счастью, явились славяне. Славяне – огромнейшая группа племен, занимавшая широкие географические пространства, обладала уникальной особенностью – пониманием слова друг друга. Именно славянские языки, их эзотерика впитали в себя Гиперборейский дух.
Язык, на котором мы говорим сегодня, имеет множество ступеней эволюции. Пласт за пластом он изменялся, включал в себя новые слова, отторгал старые, заменял или подменял понятия. Этот процесс можно характеризовать и как «утрату истинных смыслов», и как «типичную эволюцию языка». Наша эмоциональная окраска к происходившим изменениям языка не имеет значения для поиска корней и открытия древних культурных пластов. Нам достаточно констатировать то, что язык – живой и, как и всякое живое существо, способен меняться, приспосабливаться. И, самое главное это живое, разумное существо. А если так, то это существо не только приспосабливается, но изменяет окружающую действительность по крайней мере своих носителей.
Как только слово стало доступным человеку, тот принялся именовать вещи и действия. Именно глаголы и существительные явились первоосновой языка – речи. Такие свойства человеческого мышления, как сравнение, анализ и синтез, направили именование по кратчайшему пути. Звуки, производимые окружающими предметами, сравнение некоторых действий с действиями природы, так-же логика происхождения предмета стали основаниями для уподобления звуков природным. Божественная версия происхождения слов нисколько не противоречит предыдущей. Версия божественного начала и данности слова свыше, говорит, что божественное начало – Абсолют сущего мира и явленное им миру слово, ни что иное, как часть этого мира. С течением времени человеческая культура обожествила и сакрализировала слово. И пусть даже если слово и не имеет божественного происхождения, то сакрализация и мифологизация для архетипичности культуры стала основой основ. В частности, в основе русской культуры лежит словоцентризм. Литература всегда лежала в центре русской философии, на протяжении столетий литературное слово и книга определяли и выковывали народный характер. Через Слово происходило формирование русской национальной ментальности, и вместе с тем утверждалась новая событийная модель межчеловеческих отношений. Формообразующим, а потом и содержательным ядром всей русской культуры стало слово. Именно логоцентризм, жажда духовного знания, поиск сакральных откровений в слове коренным образом повлияли не только на появление литературы, но и открыли специфически национальную черту: полное доверие к слову. Следствием этого стала уникальная особенность русского читателя видеть в художественном произведении культурную проекцию социальных коллизий. Поэтому возникновение парадигмы «поэт в России больше, чем поэт» – не просто метафора, а образ жизни и диалог слова с действительностью.