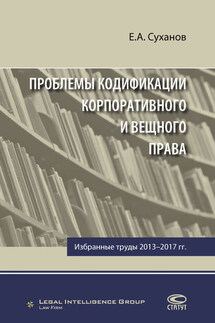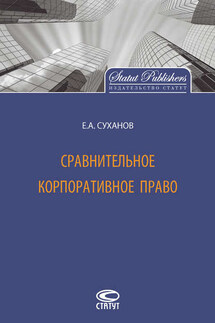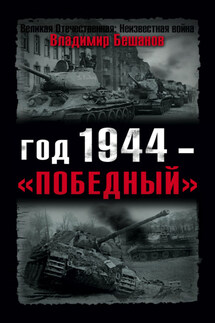Сравнительное корпоративное право - страница 9
Однако волна различных корпоративных злоупотреблений и захватов («поглощений») 80-х годов прошлого века вызвала к жизни концепцию «регуляторного вмешательства» государства в корпоративные отношения. Наиболее отчетливо этот подход проявился в установлении обязательного участия в советах директоров «независимых членов» (independent directors) и ограничении участия в них корпоративного менеджмента, что фактически привело к постепенному изменению их функций и превращению в известный аналог германских наблюдательных советов. В этой связи в литературе было подмечено изменение формулировок корпоративного законодательства отдельных штатов: если ранее оно обычно говорило о «ведении дел советом директоров» корпорации, то теперь во многих случаях говорит о «ведении дел под управлением совета директоров»[16]. В федеральном законодательстве появилась тенденция к усилению влияния на дела корпорации ее акционеров (участников), в том числе в форме усиления их контроля (особенно ясно выразившаяся в различных правилах, рекомендациях и других обязательных актах федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам – Securities and Exchange Commission, SEC – SEC Rule).
Таким образом, практика развития корпоративных отношений не подтвердила безусловной обоснованности принципа свободы договора в корпоративном праве, вытекающего из неолиберальных постулатов «экономического анализа права». Попытка объяснить правовые явления, в том числе существо юридического лица и корпорации, основываясь исключительно на экономико-теоретических постулатах – теории «сокращения издержек» (transaction costs), теоретически предполагаемых моделях поведения, требующих использования «эффективных рыночных механизмов», и т. д., оказалась неудачной.
Кроме того, такой экономический подход игнорирует всякие особенности конкретных правопорядков, вызванные спецификой их национального и культурно-исторического развития, что лишает его какой-либо научной ценности (например, в важнейшей сфере отношений собственности на недвижимость, где англо-американские estate и interests никак не сопоставляются с европейскими вещными правами)[17]. Однако выработанные на его основе «идеальные законодательные решения» («модельные законы») нередко навязываются любым правопорядкам без каких бы то ни было различий[18]. Между тем этот путь абсолютно бесперспективен применительно к большинству конкретных институтов национального гражданского права – от исковой давности и представительства до завещательного отказа (за исключением, возможно, сферы международного экономического обмена с неизбежной унификацией ее правового регулирования).
В области корпоративного права даже между правопорядками государств – участников Евросоюза сохраняются исторически сложившиеся серьезные различия, причем речь идет не только об английском и европейском континентальном праве: германская и романская (французская) системы управления акционерным обществом, олицетворяющие собой соответственно «дуалистическую» и «монистическую» модели, пока что не демонстрируют никаких тенденций к сближению, что совершенно необъяснимо с точки зрения необходимости постоянного сокращения transaction costs. Поэтому и основанные на данном подходе попытки замены корпоративно-правового регулирования договорным и всемерного внедрения в корпоративное право чужеродного ему принципа свободы договоров представляют собой лишь неизбежный результат «пропагандируемого с квазирелигиозным усердием всеблагого действия свободной игры сил, в которую право по возможности не должно вмешиваться», т. е. в сущности давно известной «политической программы развития