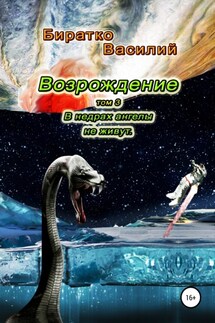Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – середине ХV в. - страница 23
Последнее из них стало все больше склоняться в сторону Москвы, а не Литвы. Недовольна пропольским и прокатолическим курсом Ягайло была и литовская знать, которая объединилась вокруг двоюродного брата Ягайло и внука Ольгерда – Витовта. В конце концов Ягайло и Витовт достигли соглашения. Литва становилась под управлением Витовта вместе с входящими в ее состав русскими землями независимым государством. А в случае смерти Витовта – переходила под управление Ягайло и его наследников. Отношения Литвы и Московского княжества осложнялись тем, что во время своего пребывания в Литве после бегства из Орды Василий I подружился с Витовтом и обручился с его дочерью Софьей. И теперь Софья Витовтовна стала великой княгиней Московской, женой Василия I. С этого момента государственные (политические, экономические, дипломатические и, конечно, церковные) интересы Литвы и Москвы постоянно сталкивались с личными симпатиями и родственными связями.
Уже в первые годы своего правления, продолжая политику своего отца, Василий I присоединил к Москве (1392) Нижегородское княжество, «выкупив в Орде ярлык на Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу и Муром»>5. Оказал давление и на Псков, который стал принимать в качестве князя лишь того кандидата, кого предлагала Москва. Рязанский князь, после острейших конфликтов с Москвой при Олеге Рязанском, как в прошлом Тверь, был уже вполне подчинен великому московскому князю при его преемниках – сыне Федоре (1402—1427) и внуке Иване (1427—1456).
Разрешил Василий Дмитриевич и церковные споры. Перед юным князем были два пути возможного решения вопроса в отношениях с церковью. Либо принять опального митрополита Киприана, либо попытаться поставить своего кандидата и тем самым возобновить конфликт с церковью, которая обладала большими политическими, материальными и духовными возможностями. На это у Василия не было ни сил, ни решимости, а кроме того, этому противоречила расстановка сил внутри русского клира. К тому же признания Киприана требовала внешнеполитическая обстановка (необходимость союза с Литвой), поэтому, желая укрепить наметившийся московско-литовский союз, он согласился с решением патриархии, принял митрополита Киприана, который был восстановлен в своих правах на митрополию, и установил канонический порядок, положив конец многолетней церковной смуте. По справедливому замечанию историка церкви Н.М. Никольского, «пока существовали удельные княжества, а Москва была еще слабым подростком, зависимость московской церкви от Константинопольского патриархата московские князья терпели молча. Но в конце XIV в. их терпению пришел конец. Трения стали увеличиваться все больше и больше, возникая по самому важному для Москвы вопросу – о кандидатах на митрополичий престол»>6.
Из Москвы было незамедлительно направлено в Константинополь к Киприану посольство с приглашением занять митрополичью кафедру. В начале октября 1389 г. Киприан выехал из Византии на Русь. К концу 1389 г. он прибыл в Киев, а 6 марта 1390 г. – в Москву, где его торжественно встретил сам великий князь. Вместе с митрополитом Киприаном прибыли греческие митрополиты Матфей и Никандр и архиереи Русской церкви: архиепископ Ростовский Феодор (племянник Сергия Радонежского, бывший Симоновский архимандрит), епископы Михаил Смоленский, Иоанн Владимиро-Волынский и Иеремия Рязанский. Сразу же после приезда Киприан поставил новых архиереев: Евфросина на Суздальскую епископию, Исаакия на Чернигово-Брянскую епископскую кафедру, Феодосия на Туровскую епископию