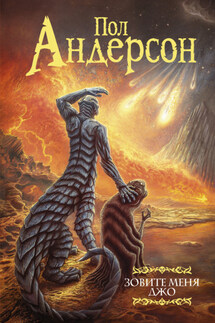Срубить дерево - страница 40
Карпентер сидел на койке, пытаясь собраться с мыслями.
Знали ли они, что это они будут мисс Сэндз и Питер Детрайтес? – подумал он. Наверное, знали – во всяком случае, именно на это они рассчитывали, потому и взяли себе такие имена, когда присоединились к колонистам. Получается парадокс, но не очень страшный, так что и беспокоиться об этом нечего. Во всяком случае, новые имена им вполне подошли.
Но почему они вели себя так, как будто с ним незнакомы?
Так ведь они и были незнакомы, разве нет? А если бы они рассказали ему всю правду, разве он бы им поверил?
Конечно нет.
Впрочем, все это ничуть не объясняло, почему мисс Сэндз так его не любит.
А может быть, дело совсем не в этом? Может быть, она так держится с ним потому же, почему и он так с ней держится? Может быть, и она так же боготворит его, как он ее, и так же теряется при нем, как и он при ней? Может быть, она старается по возможности на него не смотреть, потому что боится выдать свои чувства, пока он не узнает, кто она такая?
Все расплылось у него перед глазами.
Каюту заполнял ровный гул моторов Эдит. И довольно долго ничто больше не нарушало тишины.
– В чем дело, мистер Карпентер? – неожиданно сказала мисс Сэндз. – Заснули?
И тогда он встал. Она повернулась к нему. В глазах ее стояли слезы, она смотрела на него с нежностью и обожанием – точно так же, как смотрела прошлой ночью, 79 062 156 лет назад, у мезозойского костра в верхнемеловой пещере. «Да если вы скажете ей, что любите ее, она бросится вам на шею – вот увидите!»
– Я люблю тебя, крошка, – сказал Карпентер.
И она бросилась ему на шею.
Эмили и великие барды
Перевод Н. Виленской
Каждым утром, приходя на работу в музей, Эмили совершала обход своих подопечных. Официально она числилась помощником хранителя Зала Поэтов, но в душе почитала себя счастливейшей из смертных, приобщенной к лику (по словам одного из них) «тех грандиозных поэтов, носителей громких имен, чьи стоны звучат еще эхом в немых коридорах времен»[3].
Поэты располагались не хронологически, а по алфавиту, и Эмили, начиная с А, могла приберечь напоследок (или почти напоследок) своего любимого лорда Альфреда Теннисона.
Она каждому желала доброго утра, и каждый на свой лад отвечал ей, но лорду Альфреду она всегда говорила еще что-нибудь. «Хороший день для сочинительства, правда?» или «Надеюсь, «Идиллии» вам больше не доставят хлопот». Она, конечно же, знала, что он ничего больше не сочинит, что гусиное перо и бумага лежат на его пюпитре только для вида, что он способен процитировать только то, что написал в позапрошлом веке его двойник из плоти и крови; но почему бы не помечтать под магнитофонную запись, выдающую что-нибудь вроде «По весне кичится голубь блеском радужной каймы, по весне к любовной грезе чутки юные умы»[4] или «Только розы и лилии ради меня / До зари не смыкали глаз»[5].
Эмили пришла в Зал Поэтов, преисполненная великих надежд. Вместе с музейными директорами, учредившими этот зал, она искренне верила, что поэзия не умерла в этом мире. Стоит людям понять, что они, не листая больше пыльные книги, могут услышать волшебные строки из уст точной копии создателя этих строк, от посетителей отбою не будет. Однако ее и директората надежды, к несчастью, не оправдались.
Среднего жителя двадцать первого века модель Браунинга интересовала не больше его печатного наследия, а немногочисленные ценители по старинке предпочитали чтение и публично объявляли музейные манекены профанацией и преступлением против великих мастеров слова.