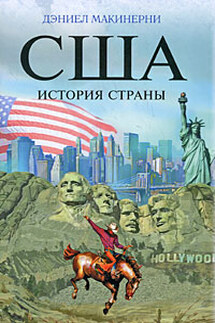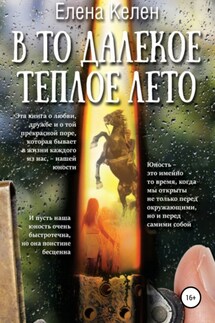США: История страны - страница 16
С чисто экономической точки зрения плантаторам также было выгоднее использовать чернокожих рабов, чем сервентов, ведь это надолго решало проблемы с рабочей силой. Тем более что с расширением рабовладельческого рынка цены на живой товар, поначалу довольно высокие, стремительно падали. С улучшением условий жизни в южных колониях увеличился и срок жизни рабов, другими словами, их дольше можно было использовать в качестве бесплатных работников. В таких условиях надобность в сервентах попросту отпадала: какой смысл заключать контракты с временными работниками, когда под рукой бесплатные пожизненные рабочие? К тому же рабы были абсолютно бесправны и беспрекословно подчинялись белым хозяевам. Их можно было заставлять работать от зари до зари, продавать, наказывать и даже убивать. А поскольку дети рабов также поступали в собственность хозяина, то рабовладелец получал идеальный самовоспроизводящийся источник рабочей силы.
Изначально торговлю рабами в Новом Свете осуществляли испанцы и португальцы. Позже к ним присоединились голландцы, англичане и французы. В этой отвратительной торговле живым товаром принимали участие и сами чернокожие: одни африканцы продавали других в обмен на европейские товары. Жертвами, как правило, становились жители западного побережья Африки – от Анголы до Сенегамбии.[5] В этом регионе проживало множество народностей, каждая со своей религией, культурой, языком и типом семейных связей.
Закованных в кандалы невольников грузили в трюм, и рабовладельческое судно пускалось в путь длиной в 5 тыс. миль – вдоль «срединного перехода»[6] из Африки в Америку. Жадные до прибыли капитаны запихивали в крошечные, душные помещения по 100, 200 и больше человек. Примерно пятая часть рабов погибала по пути к покупателям в Новом Свете. Подсчитано, что с начала XVI века до середины XIX века европейские работорговцы насильно вывезли из Африки 10–12 млн человек. Ситуация была такова, что к концу XVIII века из всех иноземцев, прибывших в Северную и Южную Америку, большую часть составляли вовсе не европейцы, а выходцы с Африканского континента.
Восемьдесят процентов невольников, прибывших в западное полушарие, оседали в Вест-Индии и Бразилии. И лишь небольшая часть (4–5% от общего числа) отправлялась в будущие Соединенные Штаты. Значительную часть этих рабов приобретали плантаторы Южных колоний, занимавшиеся выращиванием риса и табака. Надо сказать, что в конце XVII века условия жизни на табачных плантациях Чесапикского залива были более здоровыми, а труд менее мучительным, чем на рисовых полях. Помимо работоспособных мужчин, хозяева часто покупали женщин-рабынь. Таким образом они восстанавливали половое равновесие в популяции рабов и давали возможность хотя бы попытаться воссоздать некое подобие семейной жизни, от которой те были насильно оторваны. Хоть какое-то утешение! Однако плантаторами двигало отнюдь не человеколюбие: дело в том, что все потомство чернокожих рабынь (независимо от цвета кожи отца) становилось «собственностью» рабовладельца. На рисовых полях Каролины окружающая среда была куда более враждебна человеческому организму, соответственно, условия труда суровее, а вероятная продолжительность жизни короче. Да и женщин-рабынь здесь было гораздо меньше. Таким образом, чем дальше на Юг, тем тяжелее складывалась жизнь рабов.
В 1680 году общее количество рабов в американских колониях составляло примерно 7 тыс. человек (из них в одной только Виргинии жили 3 тыс.). К 1700 году это число более чем утроилось и достигло 25 тыс. человек, что составляло 20 % всего населения Юга. Однако приведенные цифры маскировали непомерно большую концентрацию рабов в отдельных областях. Например, в 1720 году число чернокожих рабов насчитывало 70 % от общего числа проживавших в Южной Каролине. Негры также доминировали практически во всех прибрежных поселениях Виргинии – именно там, где 100 лет назад обосновались первые европейцы.