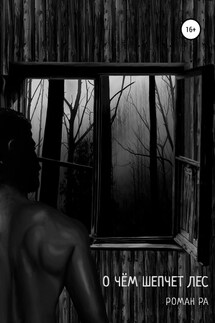СССР. Автобиография - страница 26
Не знаю, действительно ли они бросали жребий, но одно несомненно – белые наступали нерешительно, и если бы 10-я армия осталась на занимаемом рубеже обороны, противник, по моему убеждению, никогда бы не сумел взять Царицын. <...>
С удовлетворением могу сказать, что Конный корпус не поддавался влияниям белогвардейской агитации и не терял веру в победу. И в этом огромную роль сыграла та неоценимая работа, которую проводил наш дружный коллектив политработников, возглавляемый сначала Кузнецовым, а после его ранения бывшим паровозным машинистом, потомственным пролетарием А. А. Кивгелой, очень чутко разбиравшимся в людях и умевшим организовать политическую работу. Конечно, и в части Конного корпуса проникали распускаемые врагами слухи, но они сейчас же разбивались веским большевистским словом наших политработников. Высоко поставили достоинство наших комиссаров такие люди, как Бахтуров, Детистов, Берлов и многие другие политработники, крепившие революционное сознание, организованность, дисциплину и порядок в Конном корпусе, а впоследствии и в Первой Конной армии.
Весной 1920 года белый фронт развалился, и части РККА под командованием М. Н. Тухачевского и П. И. Уборевича вынудили остатки Добрармии отступить в Крым. В апреле А. И. Деникин на английском линкоре «Император Индии» отбыл в Англию, передав командование частями барону П. Н. Врангелю.
«Красные, зеленые, золотопогонные»: революционный террор, 1918–1922 годы
Владимир Бонч-Бруевич, Алексей Чумаков, Галина Кузьменко, сводки ОГПУ
Новой власти приходилось вести боевые действия не только на фронте, но и в тылу: «гидра контрреволюции», излюбленный образ коммунистической пропаганды, существовала в действительности и по мере сил старалась досадить большевикам – в ход шли любые средства, от тихого саботажа до диверсий и убийств. А новая власть при малейших подозрениях бралась за «карающий меч»; после же покушения на В. И. Ленина в Москве и убийства в Петрограде председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого в августе 1918 года был официально объявлен «красный террор». Большевистская «Красная газета» писала: «Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови – больше крови, столько, сколько возможно»; газета «Известия» утверждала: «Пролетариат ответит на поранение Ленина так, что вся буржуазия содрогнется от ужаса».
Руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), главный, наряду с самим В. И. Лениным и Л. Д. Троцким, идеолог «красного террора» Ф. Э. Дзержинский говорил: «В предположении, что вековая старая ненависть революционного пролетариата против поработителей поневоле выльется в целый ряд бессистемных кровавых эпизодов, причем возбужденные элементы народного гнeва сметут не только врагов, но и друзей, не только враждебные и вредные элементы, но и сильные и полезные, я стремился провести систематизацию карательного аппарата революционной власти. За все время Чрезвычайная комиссия была не что иное, как разумное направление карающей руки революционного пролетариата...»
О первых годах работы ВЧК вспоминал В. Д. Бонч-Бруевич, управляющий делами СНК, впоследствии – директор Музея истории религии и атеизма.
Октябрьская революция, свергнувшая дряблое Временное правительство, победила. В красной столице был установлен строгий революционный порядок. Кадеты, остатки «октябристов», монархисты, партии, считавшие себя социалистическими: трудовики, правые эсеры, меньшевики и множество других мелких разновидностей, были воистину подавлены. Прошло некоторое время. Канули в вечность назначенные сроки «падения большевиков». Новая власть и не собиралась уходить, а постепенно крепко забирала бразды правления. Мы основательно устраивались в Смольном.