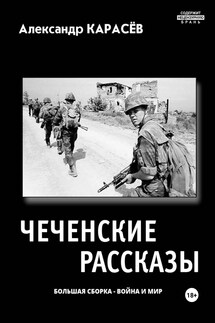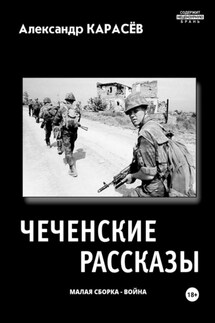Сталин в битве за Москву - страница 43
Быть может, если бы Павлов был своевременно разоблачён и уничтожен, не смог бы враг дойти до стен Москвы и Ленинграда, не падали бы бомбы на столицу и не гибли бы в блокаде ленинградцы, то есть не было бы многих трагических событий войны, подобных трагическим событиям Смутного времени.
Павлов подарил Гитлеру брешь в обороне Красной армии в первый же день войны в 104 километра, а через несколько дней уже размером в Западный фронт. И хотя сделал он во имя врага немало, мужество красноармейцев и командиров, героическое сопротивление частей и соединений, стойкость командующих, руководивших войсками, когда в первые, самые важные дни из штаба фронта не поступало никаких вразумительных приказов, не дали развернуться трагедии во всю ширь. Своевременное решение Сталина о назначении командующим Западным фронтом генерала Ерёменко, фактически спасшего положение и остановившего врага, во многом решило дело. Получив приказ принять фронт, Ерёменко, командовавший 1-й Краснознамённой Дальневосточной армией, срочно выехал поездом до Новосибирска, где его ждал посланный Сталиным самолёт. И сразу на фронт!
Тем не менее силы врага были несметны, и враг дошёл до стен Москвы.
Какой бы ни была вера Сталина в русский народ, тревога за Москву его не покидала, и он, не показывая на людях этой тревоги, проводил бессонные ночи над развёрнутой картой России, и, как точно подметил Александр Вертинский…
Дни конца ноября сорок первого были едва ли не самыми тяжёлыми в ходе Великой Московской битвы. Пройдут годы, и бывший начальник отдела печати германского министерства иностранных дел Пауль Шмидт напишет в книге «Предприятие Барбаросса», изданной в 1963 году:
«В Горках, Катюшках и Красной Поляне… почти в 16 километрах от Москвы вели ожесточённые бои солдаты 2-й венской танковой дивизии… Через стереотрубу с крыши крестьянского дома… майор Бук мог наблюдать жизнь на улицах Москвы. В непосредственной близости лежало всё. Но захватить его было невозможно…»
Невозможно было захватить, несмотря на то, что гитлеровцы имели двойное превосходство в живой силе, полуторное – в танках, двух с половиной кратное – в артиллерии.
Наступала заключительная фаза оборонительного этапа Битвы за Москву. В те дни Сталин был особенно скуп на резервы, ибо помнил прописную истину, озвученную Кутузовым, чей портрет с первых дней войны висел в его кабинете, о том, что полководец, не израсходовавший свой резерв, ещё не побеждён. Сталин, как никто другой, изучал ход и исход великих походов и сражений прошлого. Знал он и истинную причину, по которой генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов вынужден был после Бородинского сражения принять решение на отход, а затем и на оставление Москвы. Это случилось потому, что он был лишён резервов – стратегических, из-за их несвоевременной подготовки и опоздания к Битве за Москву, и оперативно-тактических, из-за предательского вмешательства остзейского ловца «счастья и чинов» барона Беннигсена в его замысел накануне сражения.
Вот и объяснение, почему Сталин во время оборонительного этапа Битвы за Москву столь ревностно оберегал все резервы до единого, оберегал так, что порою, как свидетельствуют документы, распоряжался не только дивизиями и полками, но даже батальонами и ротами. Вот объяснение, почему он подтягивал эти резервы к Москве в обстановке строжайшей секретности. Об их количестве, сроках прибытия и районах сосредоточения знали только особо доверенные сотрудники Ставки. О них, как уже говорилось, не знали даже командующие фронтами, а потому не мог Сталин звонить Жукову и задавать ему вопрос «как коммунист коммунисту»: удастся ли удержать Москву? Такой вопрос мог задать скорее сам Жуков, поскольку только Сталин, владея всей обстановкой на всех фронтах, знал на него ответ. О том пресловутом разговоре, когда Сталин, якобы задавал такой вопрос Жукову, никто, кроме самого Жукова, не слышал. Он рассказал о нём в своей насквозь лживой книге уже через много лет после смерти Сталина, книге, которую правильно было бы назвать не «Воспоминания и размышления», а «Вывирания и измышления».