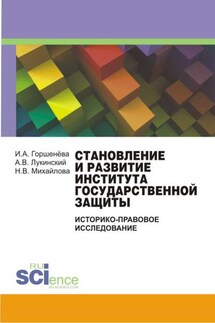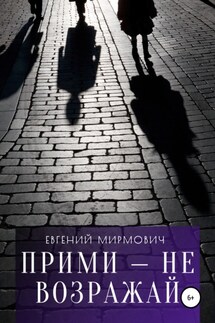Становление и развитие института государственной защиты (Историко-правовое исследование) - страница 5
Изучая Судебник 1550 года, представляется немаловажным выделить нововведения напрямую связанные с повышением статуса и обеспечением безопасности отдельных участников судебных разбирательств. Так, ст. ст. 2–5[23] впервые в законодательстве отграничивают судебную ошибку от преступления по должности, наказуемого в зависимости от ранга должностного лица, ст. ст. 6–7[24] также впервые вводится наказание за ложное обвинение должностных лиц в неправосудии и предоставляется право на обращение с челобитными в вышестоящую инстанцию.
Кроме того в ст. 6 предусматривается ответственность за ложное обвинение судей в умышленном неправосудии. Интересно отметить, что ябедничество наказывалось строже, чем умышленное неправосудие.
Первые попытки нормативного закрепления обеспечения каких-либо мер безопасности свидетеля прослеживаются в статье 17[25], которая помимо разрешения сторонам и послухам при определенных условиях выставлять вместо себя наемного бойца для участия в судебном поединке, предусматривала также, что замена послуха наймитом допускалась лишь в том случае, когда послух будет увечен «безхитростно». Можно предположить, что данная новелла была ответом на незаконные действия сторон, пытавшихся обеспечить свои интересы за счет противопоставления послуху более сильного в физическом отношении наймита.
Важными для настоящего исследования представляются и некоторые положения Соборного уложения 1649 года[26], в котором, в частности, также закреплены нормы о беспристрастном разрешении судебных дел (ст. ст. 1, 3, 5 главы Х, ст. 7 главы XXI)[27], повышении ответственности судьи и прочих должностных лиц, участвующих в отправлении правосудия (ст. ст. 6–9, 15–17 главы Х)[28]. Интерес представляют также положения статей 105–107 главы Х[29], в соответствии с которыми предусматривалась ответственность за жизнь судьи, за нарушение порядка в суде, оскорбление суда и судьи.
Особый интерес представляет 133 статья Х главы[30], в соответствии с которой предусматривалась повышенная уголовно-правовая защита лица, которому грозили убийством. Какие бы то ни было меры, направленные на обеспечение безопасности такого лица не принимались, данная норма может считаться примером использования не общей, а индивидуальной, персонифицированной защиты, когда конкретное лицо подлежит повышенному охранению путем применения сдерживающих мер уголовно-правового характера.
Статьей 174 Х главы подтверждается необходимость беспристрастности свидетелей, достижение которой не представляется возможной у бывшего холопа в отношении своего хозяина.
Уголовное законодательство времен Петра Первого, закрепленное Артикулами воинскими 1714 г.[31], содержало нормы (глава 3-я и 22я), касающиеся должностных преступлений (взяточничество, злоупотребление властью в корыстных целях), а также преступлений против порядка управления и суда (принятие фальшивого имени, принесение лжеприсяги, лжесвидетельство).
Таким образом, в ходе становления отечественной правовой системы развивалось уголовно-правовое и уголовно-процессуальное обособление лиц, принимающих участие в отправлении уголовного судопроизводства, то есть складывались система определения правосубъектности, прав, обязанностей, гарантий соблюдения этих прав и определение юридической ответственности за несоблюдение взятых на себя обязательств, иными словами, формировался правовой статус указанной категории лиц. Нормативно-правовое регулирование касалось вопросов обеспечения порядка в суде и наказания за его несоблюдение. Эти положении закреплялись также и нормами, содержащимися в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.